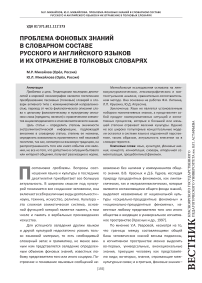Проблема фоновых знаний в словарном составе русского и английского языков и их отражение в толковых словарях
Автор: Михайлов Михаил Романович, Михайлова Юлия Люсиевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 4 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
Проблема и цель. Тенденциями последних десятилетий в мировой лексикографии являются постепенное преобразование пассивных (толковых) словарей в словари активного типа с коммуникативной направленностью, переход от чисто филологического описания слова к цельному филологическому и культурному описанию слова (предмета, явления) с привлечением элементов энциклопедического и этнолингвистического знания. Цель статьи - определить степень значимости экстралингвистической информации, подлежащей внесению в словарную статью, степень ее новизны, определить возможность применения к ней языковой политики, так как, несмотря на языковую традицию, на распространенность того или иного события или явления, не все из того, что допустимо в ситуации бытового или интернет-общения, получает реализацию в норме. Методология исследования основана на лингвокультурологическом, лексикографическом и контекстуальном анализе, сравнительно-сопоставительном методе. Она основана на работах Ф.А. Литвина, Л.П. Крысина, Ю.Д. Апресяна. Заключение. Язык не является установленным набором номинативных знаков, а представляет собой продукт коммуникативных ситуаций и когнитивных процессов, которые в большей или меньшей степени отражают явления культуры. Однако не все широко популярные концептуальные модели остаются в системе языка в отдаленной перспективе, таким образом, актуальность внесения их в словари теряется.
Язык, культура, фоновые знания, концепт, коннотация, словарь, вторичная семантизация, прецедентный феномен
Короткий адрес: https://sciup.org/144161671
IDR: 144161671 | УДК: 81'371:811.111'373
Текст научной статьи Проблема фоновых знаний в словарном составе русского и английского языков и их отражение в толковых словарях
ное пространство [Красных и др., 1997].
По мнению У.А. Уваровой, несмотря на то, что границы между составляющими общей базы человеческих знаний весьма подвижны, в когнитивном пространстве можно выделить во-первых, универсальные, вненациональные знания, присущие человеку как представителю вида; во-вторых, знания, отражающие межкультурные связи; и в-третьих, фоновые знания –
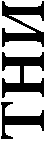

комплекс художественных и нехудожественных знаний, присущих той или иной лингвокультурной общности1.
К языковым единицам, способным представлять фоновые знания, относятся единицы, обладающие национально-культурной семантикой, реалии различных типов: номинативные слова и словосочетания, обозначающие национально-специфические явления культуры, называющие культурные реалии – артефакты или традиции, некоторые имена собственные, соотносимые с культурными реалиями, различные даты и прочее.
Базой фоновых знаний может быть как культура высокообразованной группы ее носителей, так и массовая культура, доступная любому члену той или иной языковой общности. «В фоновых знаниях можно выделить (хоть и без жестких границ) то, что... ориентировано на культурный слой, традиционно связываемый с массовой культурой…» [Литвин, 1993]. «Фоновое знание об означаемом входит в ассоциативнообразный фокус. Фоновое знание, или пресуппозиция, существенно отличается от этимологического знания живой осознанностью, поэтому оно, как всякое знание, может меняться» [Телия, 1986]. В фоновом компоненте семантики языковой единицы (слова, словосочетания, предложения) отражаются объективные связи данного явления с другими близкими ему явлениями (родо-видовые, причинно-следственные, локальные, временные, ассоциативные).
План содержания ряда разнообразных языковых единиц: лексических единиц, обозначающих культурные реалии; этнографизмов (топонимов, антропонимов и т.п.); некоторых фразеологизмов, пословиц включает в себя некоторый особый компонент, который условно может быть назван национально-культурным. Образ, который возникает в сознании носителя языка при восприятии топонима, богаче различного рода ассоциациями, чем образ, возникающий в сознании иностранца. Для американца топо- ним Houston может ассоциироваться с улицей в Нью-Йорке или, вероятнее всего, с крупным городом в штате Техас - Хьюстоном. Для иностранца фоновые знания обычно ограничиваются такой соотнесенностью - локализацией объекта, причем локализация, как правило, является более общей (и менее точной), чем у носителя языка и культуры [Томахин, 1988]. В американской разговорной речи есть популярная фраза: «Houston, we’ve had a problem» (Хьюстон, у нас проблема), появившаяся после неудачной миссии Аполлон-13, так как в Хьюстоне находится Космический центр управления полетами. Данная экстралингвистическая информация известна большинству носителей американской культуры, но незнакома иностранцам, несмотря на то, что фраза получила широкое распространение в русском языке вследствие вторичной се-мантизации - художественному фильму с аналогичным названием.
В качестве другого примера вторичной се-мантизации можно привести слово Masada, которое стала в английском языке синонимом самоубийства и восходит к названию крепости в Израиле, и если в западной христианской культуре данный концепт связан с безвыходной ситуацией и действием, входящим в список тяжелейших грехов, в еврейской культуре оно ассоциируется с победой духа, так как защитники крепости выбрали смерть, а не рабство, при этом не совершая самоубийства, которое было недопустимо для древних иудеев по религиозным причинам. Разница в отношении подчеркивается также тем, что в крепости в настоящее время проходит присяга израильских танкистов, а лозунг «Масса-да больше не падет» синонимичен словам политрука Василия Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» в советской культуре или «Англия ожидает, что каждый солдат выполнит свой долг» адмирала Нельсона в английской [Михайлова, Михайлов, 2017].
Данные языковые единицы фиксируют в своей семантике не только основные признаки обозначаемых ими предметов, явлений, понятий, но и всю связанную с ними культурологическую информацию. С точки зрения коммуни- кативной лингвистики при актуализации в речи таких единиц существенно выделение наиболее значимых для данного коммуникативного акта знаний об означаемой сущности. Эти знания могут быть зафиксированы в основном значении данной языковой единицы, а также входить в информационный потенциал знания. При актуализации таких единиц в речевых актах существенными являются производимые говорящим или слушающим операции над релевантными понятиями, приводящие к перераспределению информации между имплицитными и эксплицитными слоями плана содержания. Так как не всегда удается провести четкое членение плана содержания на лингвистические и экстралингви-стические составляющие, то можно утверждать, что актуализация такого рода единиц в речи есть «обогащение языковых значений за счет неязыкового денотативного знания (понятийного и образного), когнитивных структур, перцептивных образов и т.д., обусловленных ситуацией и контекстом высказывания» [Васильев, 1988].
Знак-сигнал будит у представителя той или иной социокультурной общности особую культурную коммуникацию, не только значение как инвариантный образ данного фрагмента мира, но и всю совокупность культурного окружения. Просто знание «языкового ярлыка» недостаточно для полного осознания реалии, требуется дальнейшая когнитивная расшифровка, а поскольку мыслительные категории неотделимы от языковых категорий, то только через познание как переход от значения-намека к понятийному содержанию единицы может происходить процесс «окультуривания» языковых единиц, ведущий к включению знака в сеть культурных ассоциаций, свойственных той или иной нации2.
Л.П. Крысин отмечает, что нормативные словари отстают от развития языка, поэтому можно даже утверждать, что любой словарь, заявленный как словарь современного языка, на момент выхода из печати является в большей или меньшей степени устаревшим. Даже в самом полном словаре, отражающем лексику языка на определенном этапе его развития, можно найти лакуны, но это, по мнению Леонида Петровича никак нельзя считать промахом лексикографа: он и не должен гнаться за языковыми изменениями, стараясь включить в свой словарь самые последние лексические новшества, иначе он рискует быть обвиненным в поспешности, неразборчивой фиксации случайного, а главное - он войдет в противоречие с языковой традицией и литературной нормой. Хороший токовый словарь, следовательно, становится на только справочником для носителей языка и лиц, его изучающих, не только подспорьем в исследовательской работе для филолога и лингвиста, но и явлением культуры в широком смысле этого слова, необходимым ее компонентом [Крысин, 2011]. Он также подчеркивает, что словари лексики, относящиеся к некодифицированным языковым подсистемам, таким как разговорная речь, просторечье, сленг, социальные и профессиональные жаргоны, отличаются и должны отличаться от нормативных словарей, описывающих лексику литературного, кодифицированного языка. Эти отличия касаются разных аспектов лексикографического представления - от словника до структуры словарной статьи и информации о слове [Крысин, 2010].
Если словари всегда отстают от развития языка, то тексты рекламы, наоборот, будучи ориентированными на максимально агрессивное воздействие на потребителя с целью манипуляции им, в большинстве случаев используют для этого самые современные и актуальные образы.
Определяющую роль в как в содержании, так и в стилистике рекламного теста играет целевая аудитория, на которую направлена реклама. Например, на телевидении нет рекламы автомобильного производителя Ламборгини, так люди, покупающие машины, находящиеся в премиальном ценовом сегменте, с высокой степенью вероятности не относятся к телевизионной аудитории. Первый ролик с рекламой гиперкара этой марки появился в 2015 году в преддверии Женевского автосалона и имел слоган «Dare your EGO» и призывал, «возгордившись своим эго», показать всем, кто самый «крутой» и «особенный».
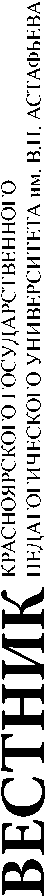
Таким образом, в данном случае во главу угла ставится уникальность человека, который подчеркивает свою исключительность и гордится личными достижениями. Напротив, если у человека нет личных достижений, то, для того чтобы тешить самолюбие, ему необходимо придумать (или ему должно быть предложено) что-то такое, что позволяет чувствовать себя в привилегированном положении по отношению к кому-либо. В этом случае происходит сдвиг в сторону коллективного бессознательного, которое, согласно К. Юнгу, является одной из форм бессознательного, единого для общества в целом и являющегося продуктом наследуемых структур мозга. Оно не зависит от индивидуального опыта и основывается на опыте общества. Основная разница между этими двумя явлениями заключается в том, что коллективное бессознательное является более глубоким слоем, чем индивидуальное, а за словом стоят не только прямые значения, но и более скрытые слои, смыслы, понятные на бессознательном уровне. Следует подчеркнуть, что ценности, которые являются значимыми в некотором обществе и принимаемы абсолютным большинством его членов, зачастую расходятся с декларируемыми ценностями и могут даже и противопоставляться официальной позиции [Михайлова, Михайлов, 2018].
Другой пример использования воспроизводимого словесного комплекса в рекламе - сол- ган крупнейшей в истории современной России финансовой пирамида «МММ», основанной Сергеем Мавроди: «Из света в тень перелетая...», причем обычно эта фраза воспринималась иронически, как фраза-символ процессов перевода капиталов из «теневой экономики» в сферу легального предпринимательства, и является первой строкой стихотворения советского поэта и переводчика Арсения Александровича Тарковского «Бабочка в госпитальном саду», которое он написал в 1945 году. Крах финансовой пирамиды, однако, стал символом невыполнения обещаний бизнеса перед вкладчиками, а ирония слогана заключалась именно в том, что в стихотворении присутствуют следующие строки: «Она клянется: навсегда! – / Не держит слова никогда, / Она едва до двух считает, / Не понимает ничего, / Из целой азбуки читает/ Две гласных буквы — А / и / О»5.
Еще один топоним, который в настоящее время получил новое дополнительное значение и изменил коннотацию с положительной на отрицательную, – «Дубровка». Недопонимание вызвано различными ассоциативными связями у представителей разных поколений: шутливой фразой «Такси на Дубровку заказывали?», которая восходит к советской комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», и трагедией, которая в первую очередь связывается более молодым поколением с мюзиклом «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке. Принимая во внимание тот факт, что действия при освобождении заложников неоднократно подвергались жесткой критике из-за большого количества погибших при освобождении, частота упоминания в событий на Дубровке в средствах массовой информации была сведена к минимуму, со временем потеряла частотность употребления, а связь указанного топонима с трагедией все более ослабевает с течением времени.
Заключение. Ассоциации и аналогии имеют универсальную природу, всегда сопровождают процессы мышления. Все виды человеческой деятельности проникнуты аналогией. Люди способны сравнивать наблюдаемые явления со своим опытом, воссоздавать сходные черты разных объектов в виде ассоциативных образов.
Речемыслительная природа может актуализировать ассоциации, соответствующие энциклопедическому знанию о мире, а также ассоциации собственно вербальные, соответствующие языковой компетенции на всех уровнях языка, однако единицы с национально-культурным компонентом семантики аккумулируют в себе как собственно языковое представление, так и тесно связанную с ним культурную среду – устойчивую сеть ассоциаций, границы которой достаточно подвижны. Так, например, практически во всех языках существует топоним Ватерлоо, который является символом неуспеха по названию города в современной Бельгии, где император Наполеон потерпел свое последнее и окончательное поражение, однако слово Чаппаквиддик, которое также символизирует событие, ставящее крест на политической карьере, известно только носителям англоязычной культуры по названию небольшого острова, где произошла автомобильная катастрофа, когда за рулем машины был сенатор Эдвард Кеннеди, а находившаяся в ней вместе с сенатором секретарша не смогла выбраться из машины и утонула [Михайлов, Михайлова, 2017].
Вполне возможно, с течением времени связь названия «Новичок» с событиями в Солсбери – топонимом, который в настоящее время также ассоциируется в русскоговорящем социуме с событиями, связанными с неудачным покушением, - также ослабнет, актуальность упоминания не только в рекламе, но и иных русскоязычных текстах будет сведена на нет, данные топоним и название препарата перейдут в разряд историзмов, а целесообразность их фиксации в толковом словаре исчезнет.
Список литературы Проблема фоновых знаний в словарном составе русского и английского языков и их отражение в толковых словарях
- Васильев Л.В. Речевой смысл предложения как результат взаимодействия языкового и неязыкового значения // Предложение и текст: семантика, прагматика и синтаксис. Л., 1988. С. 5-10.
- Красных В.В., Гудков Д.Б., Захарченко И.В. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник МГУ. Сер. 9. 1997. № 3. С. 62-75.
- Крысин Л.П. О словарном представлении лексики некодифицированных подсистем языка // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2010. Т. 69, № 1. С. 28-43.
- Крысин Л.П. Проблема обновления толковых словарей современного русского языка // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2011. Т. 70, № 1. С. 3-9.
- Литвин Ф.А. С кем поведешься // Лексика и лексикография. М., 1993. С. 87-97.
- Михайлова Ю.Л., Михайлов М.Р. Коннотативная окраска топонимов и особенности их функционирования в лексическом составе английского языка // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. Научный журнал. 2017. № 3 (16). C. 69-71.
- Михайлова Ю.П., Михайлов М.Р. О необходимости разработки актуальной методики определения личностных ценностей современной молодежи // Наука. Культура. Искусство: Актуальные проблемы теории и практики: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф.: в 4 т. / отв. ред. И.Е. Белогорцева, Ю.В. Бовкунова, С.И. Маматова. 2018. С. 72-77.
- Телия В.Н. Коннотативный аспект сементики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 141 с.
- Томахин Г.Д. Реалии-американизмы: пособие по страноведению. М.: Высш. шк., 1988. 239 с.