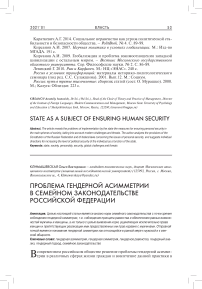Проблема гендерной асимметрии в семейном законодательстве Российской Федерации
Автор: Климашевская Ольга Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящей статьи является анализ норм семейного законодательства с точки зрения соблюдения гендерной симметрии, т.е. соблюдения принципа равенства и обеспечения равных возможностей мужчины и женщины, а не только с целью выявления норм, ущемляющих исключительно права женщин и препятствующих реализации ими предоставленных им прав наравне с мужчинами. Отправной точкой является понимание гендерной симметрии как относящейся в равной мере к мужской и к женской общности.
Гендерная асимметрия, гендерная симметрия, гендерное равенство, гендерный анализ, гендерный подход, семейное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/170174573
IDR: 170174573 | DOI: 10.31171/vlast.v29i1.7888
Текст научной статьи Проблема гендерной асимметрии в семейном законодательстве Российской Федерации
Всовременном российском обществе решение проблемы гендерной асимметрии в различных сферах жизни граждан и вовлечение данной практики в правовой процесс актуализировались вследствие многообразия происходящих в России процессов, таких как институционализация и внедрение в массовое сознание позитивных демократических факторов и процедур. Немаловажным моментом стало провозглашение таких ценностей, как свобода и равноправие граждан, избрание высших органов государственной власти, обращение к правам и свободам человека как к высшей ценности, создание института идеологического плюрализма, развитая правовая система, согласующаяся с принципом гендерного равенства.
Не будет преувеличением констатировать, что семья – это именно та область, которая наиболее чувствительна к проблеме гендерного неравенства; именно там оно проявляется наиболее остро и часто болезненно. Формирование семьи как института социума, а значит и отношений между супругами происходит под влиянием социально-экономических, политических условий, национальной культуры, устоявшихся традиций и личностных убеждений партнеров, которые вступили в брак. В связи с этим данную задачу становится трудно решить лишь только с помощью правовых инструментов, исключая нюансы внутрисемейных отношений, т.к. образуется риск вторгнуться в сферу частных вопросов и интересов супружеских отношений. Соответственно, семейные отношения – это та область, где обеспечить реализацию равных прав и равных возможностей представителям обоих полов правовыми инструментами наиболее трудно.
Также общепринятым фактом является, что семья – это та сфера, где формируются модели гендерных отношений, которые потом переносятся в остальные области общественных отношений. Именно поэтому достаточно сложной и важной задачей является закрепление идеи равенства полов в семье и практическая реализация ее в жизни. Разработка механизма ее претворения для законодателей является задачей с высоким уровнем ответственности.
Главная цель семейного законодательства – это создание таких правовых условий, которые максимально благоприятствовали бы укреплению семейных отношений не только в сложившейся внутриполитической и социально-экономической ситуации, но также в условиях периодически возникающих вызовов западных демократических ценностей. Ведь семья, где ее члены имеют возможность удовлетворять свои интересы, где обеспечена достойная жизнь и развитие каждого из них, – это результат закрепления принципа равных возможностей, где супруги могут реализовывать принадлежащие каждому из них права и свободы.
Таким образом, анализ законодательства необходим с целью определения возникающих преимуществ женщин или мужчин при решении тех или иных вопросов семейного характера, которые ограничивают права одного из них. Во-вторых, данная экспертиза необходима для анализа гендерно нейтральных, на первый взгляд, норм, которые при более детальном анализе показывают необоснованное расширение прав одного из супругов.
Так, в действующем семейном праве принцип равенства мужчины и женщины заложен в ст. 1 СК РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020). В тексте нормы указано, что «регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию». Указанный выше принцип дополнительно подкрепляется ст. 31 и 61 СК РФ, где более детально прописано, в чем конкретно выражается принцип равенства: в свободе выбора рода занятий, профессии и места жительства, в осуществлении ими своих родительских прав.
Тем самым, нормы Семейного кодекса в большинстве своем гендерно нейтральны: согласно им, муж и жена имеют равные права при решении всех вопросов совместной жизни, т.е. супруги выступают как равные партнеры. Случаи нарушения симметрии чаще всего обусловлены физиологическими различиями между мужчиной и женщиной, которые приводят к определенным социально-правовым последствиям, таким как «активное» обеспечение равенства именно женщинам в семье. Соответственно, упрек, высказанный в адрес законодателей и авторов современных гендерных исследований в связи с неоправданно преувеличенной в них женской темой, во многом справедлив.
Так, в Семейном кодексе существует четыре нормы, которые откровенно нарушают гендерную симметрию.
В первую очередь, это ст. 17 СК РФ, которая регламентирует ограничение права мужа на развод. Речь идет о ситуации, когда муж не может подать иск о расторжении брака без согласия жены в период ее беременности или в течение одного года после рождения ребенка. Однако, согласно ст. 16 СК РФ, супружеские отношения могут быть расторгнуты по заявлению одной из сторон.
При сопоставлении текста обеих статей становится очевидным, что в данном контексте ограничиваются только права мужчины на развод; женщина полностью оставляет за собой право на бракоразводный процесс. Нельзя не отметить, что данная ситуация, закрепленная в СК РФ, не является новшеством и существует еще со времен Советского Союза. Так, в прежнем СК 1969 г. уже существовало подобного рода ограничение, которое объяснялось необходимостью заботы о женском здоровье и защите ее в период максимальной зависимости от обстоятельств, связанных с декретом. Однако наряду с нормами СК РФ существуют еще разъяснения пленума Верховного суда1 по данному поводу, где указано, что данное ограничение действует даже в случаях, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им одного года. При отсутствии согласия жены на расторжение брака суд должен отказать в принятии искового заявления, а если оно было принято, то прекратить производство по делу.
В судебной практике справедливо обращалось внимание, что не делается никаких послаблений и в тех случаях, когда, например, муж не является отцом ребенка, рожденного его женой, или когда ребенок в возрасте до одного года проживает не с матерью, а с отцом или с другими лицами, и мать не осуществляет непосредственного ухода за ним2.
Установленное законом ограничение прав мужа на расторжение брака по его инициативе до сих пор является спорным и весьма дискуссионным моментом у законодателей при внесении поправок в СК РФ. Несмотря на приводимые доводы и аргументы, попытки отмены данного ограничения не увенчались успехом, о чем свидетельствует судебная практика за 2019 г. по ст. 17 СК РФ3.
Однако, по мнению сторонников отмены такого ограничения, стоит отметить, что целесообразность данной нормы, применение которой обусловлено особым психическим и физическим состоянием женщины во время беремен- ности и при рождении ребенка, в некоторых ситуациях весьма сомнительна. Так, комментируемая статья никак не ограничивает возможности предъявления мужем других исков, например, о разделе совместно нажитого имущества, об оспаривании отцовства или взыскании алиментов, а это едва ли ограждает женщину от переживаний, связанных с разбирательствами по указанным вопросам, а, возможно, даже их усугубляет.
Таким образом, разбираемая норма является именно тем примером, когда целесообразно провести целевое социологическое исследование, направленное на определение степени эффективности и нужности, а также на выявление негативных последствий применения данной нормы на практике.
Следующие ассиметричные нормы – обязанность мужа по уплате алиментов жене в период ее беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка (ст. 89–90 СК). Статья 89 возлагает на мужа обязанность предоставления содержания – выплаты алиментов. Аналогичная обязанность возлагается на мужчину и по отношению к его бывшей жене в случае развода при условии, что беременность возникла до момента расторжения брака. Наличие подобного рода нормы в российском законодательстве обусловлено необходимостью повышенной заботы о женщине, находящейся в состоянии беременности или занимающейся уходом за ребенком до достижения ребенком возраста, когда он может быть более безболезненно для его психики передан в детское учреждение.
Таким образом, охраняются и интересы ребенка, которому до достижения возраста 3 лет, по российским воззрениям, предпочтительнее оставаться дома. Здесь, строго говоря, речь должна идти о праве любого из супругов, занимающегося уходом за ребенком, требовать от другого выплаты алиментов на свое содержание. Представляется, что в роли родителя, ухаживающего за маленьким ребенком, может в равной мере оказаться и отец, если, например, мать лучше трудоустроена, больше дорожит своей работой или ее труд лучше оплачивается. Откровенная несправедливость этой нормы становится особенно очевидной тогда, когда мать оставила семью и отец вынужден взять заботу о ребенке полностью на себя. При этом, оказавшись в этой ситуации, он не только не может развестись со своей женой без ее согласия до достижения ребенком 1 года, о чем уже шла речь выше, но еще должен по закону выплачивать ей алименты до достижения ребенком возраста 3 лет, поскольку закон не предусматривает в этом отношении никаких исключений и не допускает никаких оговорок. Между тем и в трудовом праве, и в праве социального обеспечения на смену термину «мать» все чаще приходит термин «лицо с семейными обязанностями», и речь идет о лицах, «фактически осуществляющих уход за ребенком». Это и соответствует принципу формального равенства мужчины и женщины, и обеспечивает каждому из родителей независимо от пола равные возможности по осуществлению ими родительских прав. Обратите внимание: при том, что закон признает родителей равными в правах, в статье четко названа «мать». Даже если ребенок проживает с отцом и уход за ребенком осуществляет отец, а мать живет своей жизнью, отец лишен права требовать алименты.
И в заключение анализа с точки зрения гендерной асимметрии интересно рассмотреть закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а именно ст. 3 данного закона.
В соответствии с действующим законодательством, право на получение материнского капитала имеет женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 г.
Отец имеет право на получение материнского капитала только в случае усы- новления ребенка в качестве единственного родителя. Мать может получить материнский капитал в любом случае, если не лишена родительских прав. Известны случаи отказа отцам-одиночкам в получении материнского капитала на детей по причине того, что их мать не была гражданкой РФ, а также случаи, когда женщина получала материнский капитал несмотря на то, что ушла из семьи и детей воспитывал отец.
На основании проведенного анализа законодательства РФ можно сделать следующие выводы.
-
1. С формально-юридической точки зрения действующее семейное законодательство основывается на строгом соблюдении принципа равенства между супругами, являющегося развитием конституционного принципа равенства между мужчиной и женщиной (ст. 16 Семейного кодекса РФ). Норма предполагает гендерно нейтральный подход и исходит из того, что супруги являются равноправными партнерами. Случаи, где гендерная симметрия нарушена, немногочисленны, и это, как правило, сделано осознанно или обусловлено физиологическими различиями между полами и связанными с этим социальными последствиями.
-
2. В семейном законодательстве имеется ряд норм, в которых нарушение гендерного равенства представляется недостаточно обоснованным или, во всяком случае, весьма спорным. К числу таких положений можно отнести установленное в ст. 17 СК ограничение права мужа на расторжение брака во время беременности его жены и в течение одного года с момента рождения ребенка, а также предусмотренную ст. 89 и 90 СК обязанность мужа содержать свою жену (бывшую жену) в течение беременности и трех лет с момента рождения ребенка в той части, в которой это касается периода от 1 года до 3 лет с момента рождения ребенка.
-
3. Наличие на уровне федерального законодательства меры «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не выдержанной с точки зрения формального или фактического равенства супругов, свидетельствует о недостаточно последовательно проведенном гендерном подходе при разработке данного закона. Причины этого кроются в известном автоматизме нашего восприятия вопроса о равенстве мужчины и женщины, который традиционно считается у нас решенным и не вызывающим каких бы то ни было серьезных проблем. В известной степени под влиянием этого стереотипа достигнутого равенства оказались большинство законодателей, причастных к разработке мер по поддержке семей, имеющих детей, что и обусловило перекосы в правовом регулировании отношений между мужчиной и женщиной.
-
4. В заключение следует отметить, что в ряде случаев представляется целесообразным пересмотреть некоторые положения семейного законодательства и федеральные законы, касающиеся поддержки семьи, предварительно проведя социологические исследования, позволяющие вскрыть реальную эффективность и возможные побочные негативные последствия применения тех или
- иных правовых норм.