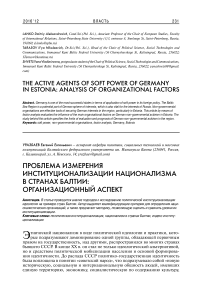Проблема измерения институционализации национализма в странах Балтии: организационный аспект
Автор: Уразбаев Евгений Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ подходов к исследованию политической институционализации идеологии на примере стран Балтии. Автор выделяет квалифицирующие критерии для определения националистических организаций, а также предлагает методику, позволяющую оценить и сравнить уровни их институционализации.
Политическая институционализация, национализм в странах балтии, индекс институционализации
Короткий адрес: https://sciup.org/170168258
IDR: 170168258
Текст научной статьи Проблема измерения институционализации национализма в странах Балтии: организационный аспект
Этнический национализм в виде политической идеологии и практики, которые подразумевают доминирование одной группы, обладающей первичным правом на государственность, над другими, распространился во многих странах бывшего СССР. В конце XX в. он стал не только идеологической альтернативой, но и средством политической мобилизации населения и основой формирования идентичности. До распада СССР политико-государственная идентичность была воплощена в понятии «советский народ», что подразумевало собой «новую историческую, социальную и интернациональную общность людей, имеющих единую территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное общенародное государство и общую цель – построение коммунизма»1. Определение, декларирующее равенство наций и народностей, включенных в «коллектив тружеников» и объединенных идеологией и принципами, представляло яркий пример идеологического конструктивизма. К началу кризиса отечественной политической системы стало очевидно, что «советизация» потерпела неудачу. К тому же времени руководство СССР начало терять идеологический и кадровый контроль над элитами ряда республик, что позволило им консолидироваться на этнической основе.
Этнонациональная политика ряда посткоммунистических государств, в частности Латвии и Эстонии, выразилась в комплексе мер для закрепления приоритета так называемой титульной нации: в принятии этноцентричных конституций и законов; изменении официальной интерпретации исторического прошлого; создании контролирующих государственных учреждений; принятии программ «национальной идентичности» и т.п. Как показывает опыт указанных государств, формирование этнополитических идентичностей титульного населения проходит в тесной связи с институционализацией национализма.
Изучать институционализацию национализма можно по ряду аспектов, в т.ч. организационному, где внимание следует уделить организационно-структурным воплощениям национализма. При оценке политической институционализации в организационном смысле ее зачастую рассматривают как процесс, служащий средством зарождения, закрепления и развития организаций. Так как исследуемые объекты могут иметь разный уровень институционализации, ученые ведут дискуссии, во-первых, по поводу критериев его оценки, а во-вторых, по поводу методики измерения.
Предлагая собственные критерии институционализации, С. Хантингтон определил следующие пары: «адаптивность – ригидность», «сложность – простота», «автономия – подчинение», «сплоченность – раздробленность» [Хантингтон 2004]. Первая пара критериев связана с тем, что высший уровень институционализации принадлежит наиболее адаптивной организации или процедуре, а низший относится к самому ригидному институту. С одной стороны, эта позиция обосновывается автором через объяснение влияния окружающей среды на институт. Организация или процедура, с успехом справляющаяся с внешними требованиями, имеет растущий уровень институционализации. С другой стороны, уровень институционализации зависит от возраста института. Вторая пара критериев «сложность – простота» обоснована тем, что организация с высшим уровнем институционализации будет наиболее сложной. Выражение организационной сложности институтов может проявляться в усложнении их структур, в функциональном и не только разделении отдельных видов их частей и в наличии множества целей. С точки зрения автономии политическая институционализация подразумевает развитие, при котором политические организации и процедуры не ограничиваются функцией выражения интересов отдельных социальных групп. Четвертый аспект у С. Хантингтона связан с тем, что более сплоченная организация обладает высшим уровнем институционализации, чего нельзя сказать при ее раздробленности.
В. Рэнделл и Л. Свозанд раскритиковали вышеупомянутый подход за то, что модель С. Хантингтона смешивает причины и следствия институционализации, а также за тавтологию критериев [Randall, Svåsand 2002: 10]. Изучая политические партии, исследователи предложили матрицу институционализации. С одной стороны, они выделили внутренние процессы, проходящие внутри организаций, и внешние, выраженные в отношениях партий с обществом и его элементами; с другой – структурные и позиционные компоненты процесса институционализации [Randall, Svåsand 2002: 12-13]. Структурным аспектом внутреннего измерения процесса у В. Рэнделла и Л. Свозанда является «системность». Она представляет собой масштаб, интенсивность и регулярность взаимодействий, образующих политическую партию как структуру. «Инфузия ценности», предполагающая то, что члены партии и ее сторонники идентифицируют и связывают себя с организацией, предстает вторым аспектом внутреннего измерения процесса, но уже позиционным. Аспект, являющийся внешним и структурным, называется «автономией выбора», а «материализация» предстает внешним позиционным измерением характеристик институционализации и несет в себе оценку существования политической партии в социальных представлениях.
Немецкие исследователи М. Баседо и А. Стро на основе понятия институционализации С. Хантингтона и концепции В. Рэнделла и Л. Свозанда предложили собственную модель измерения партийной институционализации в виде индекса институционализации партий (ИИП). Ученые приводят четыре параметра институционализации: внутреннюю стабильность – уровень организации, внешнюю стабильность – укоренение в обществе, внутреннюю инфузию ценности – когерентность (связь, слаженность) и внешнюю инфузию ценности – автономию [Basedau, Stroh 2008: 9]. Каждый параметр включает в себя индикаторы, балльная оценка которых позволяет рассчитать ИИП. Параметры раскрываются и кодифицируются по следующим индикаторам: укорененность в обществе, автономия, уровень организации и когерентность [Basedau, Stroh 2008: 27]. Заслуга М. Баседо и А. Стро состоит в комплексной разработке модели измерения партийной институционализации и в предложенной ими системе кодификации индикаторов, что позволяет оценить уровни становления и развития партий, а также сравнивать их.
Вместе с тем применение методики измерения партийной институционализации, предложенной немецкими исследователями, ко всему перечню националистических организаций является нецелесообразным по двум причинам. Во-первых, из-за того, что националисты в политической жизни современных стран Балтии имеют различную организационную структуру, и при измерении уровня их институционализации необходимо использовать отличный набор индикаторов. Во-вторых, исследование националистических организаций, представляющих собой идеологически обособленную часть объединений и групп, требует определения ключевых критериев, которые помогут не только отделить организации националистического спектра от других, но и типологизировать их.
Для решения этой задачи на основе критериев, предложенных И.Н. Тарасовым [Тарасов 2015: 56], были выдвинуты три квалифицирующих критерия:
-
а) степень формализации организационной структуры: формализованные (разделенные по организационно-правовой форме политические партии и другие общественные организации) или неформализованные (действующие легально или нелегально) группы;
-
б) самоидентификация, представляющая собой документально закрепленную (в отношении легальных организаций) приверженность принципу политического приоритета этнической нации и компонентов этнической идентичности;
-
в) националистический характер деятельности организаций, отраженной в сообщениях СМИ.
На основе применения трех указанных критериев выяснилось, что в Латвии, Литве и Эстонии на начало 2016 г. насчитывается около 30 активно действующих общественных объединений и группировок. Очевидно, что, основывая свою деятельность на этническом факторе, организации зачастую ставят своей целью не поддерживать и развивать этническую общность, а политически мобилизовать людей для достижения собственных интересов.
«Ведущая» группа националистов стран Балтии включает в себя политические партии. Некоторые из них (латвийская партия «Все для Латвии!» – «Отечеству и свободе/ДННЛ», литовская партия «Союз Отечества – Литовские христианские демократы», эстонская партия «Союз Отечества (Исамаалийт) и ResPublica») представлены в национальных парламентах и имеют возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику своих стран. Общей чертой непарламентских националистических партий стран Балтии является отстаивание более радикальных методов решения национального вопроса. Вторая группа, в которую вошли достаточно разнородные националистические организации, представлена общественными ассоциациями и движениями, которые отличаются как по виду официально зарегистрированной организационно-правовой формы деятельности, так и по характеру политических требований и установок. В третью группу были включены неформальные группировки, которые отличаются слабой организационной структурой, малосодержательными политическими программами и крайне радикальной направленностью националистической деятельности.
Для определения уровня институционализации указанных националистических организаций предлагается использовать индекс, представляющий собой сумму средних арифметических показателей индикаторов, оцененных в баллах, по 4 параметрам.
Первый внешний параметр, именумный «укорененность в обществе», характеризует роль и место организации в социальной жизни. Для его определения были выделены следующие индикаторы: возраст организации с момента провозглашения независимости государства от СССР с учетом изменения организационно-правовой формы (0 баллов – меньше 6 лет, 1 балл – 6–12 лет, 2 балла – 12–18 лет, 3 балла – больше 18 лет); организационно-правовая форма (0 баллов – неформальная группировка, 1 балл – иная общественная организация, 2 балла – политическая партия); влияние организации на принятие политических решений (0 баллов – нет возможностей, 1 балл – наличие связей организации с действующей государственной властью, 2 балла – представители организации работают в законодательном органе власти, 3 балла – представители организации работают в исполнительном органе власти). Последний индикатор является одним из наиболее значимых, т.к. участие представителей объединений или групп в постановке и достижении целей в сфере государственной власти говорит о высокой роли организации и, как следствие, ее институционализации.
Второй внешний параметр, представленный «автономией», позволяет определить степень самостоятельности организации на основе оценки независимости в принятии решений, ее политической активности и обеспеченности необходимыми ресурсами. Индикаторы автономии: независимость при принятии решений по программным, кадровым и иным вопросам (0 баллов – организация зависит от других субъектов, 1 балл – частично зависит либо имеются объективные сомнения, 2 балла – организация независима); материальные и кадровые ресурсы (0 баллов – относительно мало ресурсов: немного сотрудников, офисов, фондов, 1 балл – несколько, 2 балла – много); политическая активность организации (0 баллов – нет политического участия или деятельности, 1 балл – политическое участие, 2 балла – политическая деятельность).
Первый внутренний параметр – «организованность» определяется после балльной оценки: регулярности организационных мероприятий (0 баллов – спорадические мероприятия или их отсутствие, 1 балл – значительные ограни- чения по регулярности, 2 балла – регулярные мероприятия); целостности объединения или группы (0 баллов – деструктивное разделение, фракционность, 1 балл – внутренняя борьба без расколов, 2 балла – умеренные конструктивные отношения или отсутствие фракционности); организационного присутствия в столице, крупных, малых городах, деревнях (0 баллов – присутствие только в одной категории административно-территориальных единиц, 1 балл – присутствие в двух категориях, 2 балла – присутствие в трех-четырех категориях).
«Когерентность» характеризуется слаженностью организации. Индикаторами здесь выступают: наличие общей программы организации (0 баллов – отсутствие программных документов, 1 балл – не общепринятые программные документы, 2 балла – имеются общепринятые и документально закрепленные цели и принципы организации) и последствия внутренних противоречий (0 баллов – изгнание отступающих от общей линии, 1 балл – словесная непримиримость либо угрозы от руководства организации, 2 балла – отсутствие противоречий либо свободная внутренняя дискуссия). Кроме этого, второй внутренний параметр дополняется оценкой смены руководства объединений и групп, по которой организации, наиболее часто меняющие своих лидеров, относятся к категории субъектов с низким уровнем когерентности (0 баллов – 2 и более смен, 1 балл – смен не было, 2 балла – единичная смена либо редкие решения о смене руководства).
Исследование организационного аспекта политической институционализации национализма предполагает изучение зарождения, закрепления и развития тех объединений или групп, которые разделяют принцип политического приоритета определенной нации и этнической идентичности над другими. Для оценки и сопоставления уровней институционализации националистических организаций, а также других объединений и групп предлагается использовать индекс, выраженный в сумме средних арифметических показателей, рассчитанных на основе анализа 4 параметров, которыми следует признать организованность, укорененность в обществе, когерентность и автономию.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-37-01209.
Список литературы Проблема измерения институционализации национализма в странах Балтии: организационный аспект
- Тарасов И.Н. 2015. Правый радикализм и факторы ксенофобских социальных практик в Венгрии. -Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. № 6. С. 55-62
- Хантингтон C. 2004. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция. 480 с
- Basedau M., Stroh A. 2008. Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties. -GIGA Working Papers. № 69
- Randall V., Svåsand L. 2002. Party Institutionalization in New Democracies. -Party Politics. № 8. P. 5-29