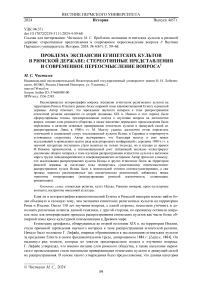Проблема экспансии египетских культов в римской державе: стереотипные представления и современное переосмысление вопроса
Автор: Чисталев М.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историографическая полемика
Статья в выпуске: 4 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается историография вопроса экспансии египетских религиозных культов на территорию Рима и Италии в рамках более широкой темы взаимоотношений Египта и римской державы. Автор отмечает, что зарождение научного интереса к теме распространения египетской религии начинается со второй половины XIX в. Именно в этот период были сформулированы тезисы, предопределившие подход к изучению вопроса на десятилетия вперед: низшие слои римского общества, а также население неримского происхождения были определены в качестве основных приверженцев египетских культов и движущей силой их распространения. Лишь в 1980-х гг. М. Малэзу удалось достаточно точно определить этнический и социальный статус последователей культов Исиды и Сераписа и опровергнуть устоявшиеся стереотипы. Автор подчеркивает, что благодаря выходу в свет новых исследований и проведению целого ряда международных конференций с середины 1990-х гг. в научной литературе постепенно стали меняться не только подходы, но и идущая со времен Ф. Кюмона терминология, а экспоненциальный рост публикаций наглядно иллюстрирует увеличение общего интереса к теме изучения распространения египестких культов в античном мире в трудах западноевропейских и североамериканских историков. Автор приходит к выводу, что исследования распространения культов Исиды и других египетских богов на территории римской державы за последние годы подверглись существенному переосмыслению: распространение культа Исиды было в значительной степени контекстуализировано, а сам процесс перестал рассматриваться как исключительно религиозный, добавились новые горизонты интерпретации (конструирование римской идентичности, эллинизация, романизация).
Египетская религия, культ Исиды, Римская империя, кросс-культурные контакты, восприятие иноземной культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/147247303
IDR: 147247303 | УДК: 94(37) | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-4-59-68
Текст научной статьи Проблема экспансии египетских культов в римской державе: стереотипные представления и современное переосмысление вопроса
Едва ли в историографии взаимоотношений Египта и Римской империи можно найти более объемную и сложную тему, чем экспансия египетских религиозных культов на территорию Рима и Италии. Около 150 лет изучения вопроса, с одной стороны, позволили уточнить и дополнить различные аспекты данной тематики, с другой стороны, по-прежнему оставили широкое поле для интерпретации процесса распространения египетских культов как части более обширной темы кросс-культурной коммуникации в Древнем мире.
Египетские артефакты, обнаруженные во второй половине XIX в. на территории Италии, стали причиной зарождения научного интереса к теме распространения египетской религии. Начало было положено Г. Лафайе, впервые обратившимся к исследованию египетских культов за пределами Египта в своем фундаментальном труде, датированном 1884 г. [ Lafaye , 1884]. Он выдвинул ряд тезисов, которые во многом предопределили подход к изучению вопроса. Г. Лафайе утверждал, что именно низшие слои римского общества, а также население неримского происхождения стали основными приверженцами египетских культов и движущей силой их распространения. В основе такого утверждения было предположение, что данная категория
жителей Рима и Италии не соблюдала поведенческий канон mos maiorum . Таким образом, по мнению Г. Лафайе, они искали менее строгую и более ориентированную на простого человека форму религии, при этом, будучи неграмотными и эмоционально слабыми (в отличие от представителей римской аристократии), они оказались не в состоянии справиться с натиском египетской религии.
Ф. Кюмон, исследовавший восточные культы в Риме, считал, что именно римский сенат как оплот аристократии выступал в роли главного защитника mos maiorum , в то время как все более маргинализируемые римской элитой низшие слои населения искали покровительства в восточных культах, в частности в поклонении Исиде [ Cumont , 1911]. В результате в историографии сложилось устойчивое представление о том, что религиозные ценности, а именно спасение после смерти и вера в загробную жизнь, сопряженные со сложными ритуалами и таинствами, помогали обездоленной части римлян избегать или хотя бы уверенно переносить тяготы и страдания повседневной жизни. Соответственно, и развитие религии стало рассматриваться как линейный процесс, где Исида со своими божественными спутниками ознаменовала и подготовила переход от предшествующих языческих представлений к «конечной» точке развития религиозного мышления – христианскому монотеизму [ Witt , 1971, p. 298]. При этом научный авторитет Ф. Кюмона был настолько велик, что после выхода монографии любые дебаты на тему распространения египетских культов на территории Италии в целом оказались закрытыми. Соответственно, на протяжении последующих нескольких десятилетий исследователи концентрировали свое внимание только лишь на новых артефактах, обнаруженных в различных частях Средиземноморья.
Вместе с тем были и исключения, как, например, П. Руссель [ Roussel , 1916], антиковед, писавший свою монографию в разгар Первой мировой войны. Он проанализировал примерно 340 надписей, связанных с египетскими культами на о. Делос, впервые указав на посредническую роль эллинистического мира в распространении этих верований [Ibid., p. 239–293]. В период с 1922 по 1925 г. чешскому филологу Т. Хопфнеру удалось собрать свидетельства почти четырехсот авторов, писавших о египетской религии в широком понимании этого термина как на греческом языке, так и на латыни [ Hopfner , 1922]. Однако его труд так и не стал широкодоступным.
Сама по себе постановка вопроса об экспансии египетских религиозных культов в Риме и влиянии Востока на религиозную жизнь римского общества на этом раннем этапе, по мнению В. Тран Там Тиня, была вызвана возросшим в конце XIX в. духовным влиянием Востока на Запад, в связи с чем представления о мистериальных культах в целом и культе Исиды и Сераписа в частности нашли благодатную почву для развития в европейском обществе [ Tran Tam Tinh , 1984, p. 1710–1730].
Новый этап в исследовании египетских религиозных культов в римской державе пришелся на 1950-е гг. и был связан с появлением серии Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain (EPRO), редактором которой выступил М. Дж. Вермасерен. Работы Ж. Леклана [ Leclant , 1956, p. 173–179] и М. Дж. Вермасерена не только дали новый импульс теме отношения к египетской религии в римском мире, но и продолжили рассматривать ее как часть общего интереса римлян к восточным культам.
Именно в 1950-е гг. целый ряд исследователей независимо друг от друга обозначили эпоху Принципата как ключевой период, в который происходит изменение отношения римлян к египетским культам и их последователям на территории Рима и Италии [Beaujeu, 1955; Lambrechts, 1956; Leclan, 1959, p. 303–308; Malaise, 1972]. П. Ламбрехтс подчеркивает, что взаимоотношения императоров с сенатом напрямую зависели от их религиозных предпочтений: правители, благоволившие культу Кибелы, сохраняли благосклонность сената, а те, кто предпочитал культ Исиды, имели выраженный негативный настрой по отношению к одному из высших государственных органов власти в Древнем Риме [Lambrechts, 1956, p. 24]. Аргументы П. Лам-брехтс нашли свое развитие у Ж. Леклана, который и вовсе утверждал, что главным виновником очернения образа отдельных императоров, считавшихся тиранами, и обозначения их егип-тофилами является римский сенат [Leclan, 1959, p. 305]. Даже несмотря на то, что в последую- щем подобные утверждения были совершенно обоснованно признаны не соответствующими действительности, само по себе их появление внесло свой вклад в увеличение интереса к теме.
В 1960‒1980-е гг. исследование кросс-культурных и религиозных контактов Египта и Рима продолжает развиваться, и значительный вклад в раскрытие путей проникновения культов Исиды и Сераписа на территорию Италии был внесен В. Тран Там Тинем [ Tran Tam Tinh , 1971; Tran Tam Tinh , 1972] и М. Малэзом [ Malaise , 1984]. Именно профессор из Льежского университета убедительно доказал, что о. Делос был связующим звеном между Александрией и Италией и именно римские торговцы с Делоса принесли египетские культы в Кампанию. Основным катализатором, по его мнению, явилось разграбление Делоса в 88 г. до н.э. врагом Рима Митридатом VI Евпатором.
При этом следует отметить, что подобная трактовка на момент выхода работ М. Малэза и В. Тран Там Тиня отнюдь не была доминирующей. Так, Ж. Бэхлер [ Baechler , 1959], следуя в русле аргументов Ф. Кюмона, выдвигал предположение, что первые последователи культа Исиды прибыли в Италию непосредственно из Александрии. Соответственно, местные выходцы с Востока и местная аристократия переняли эти религиозные традиции. Причем если неримским населением двигало желание принять близкую по менталитету религию, то для других групп римского общества, по мнению Ж. Бэхлера, это было своеобразной причудой, которую З. Моренц, в свою очередь, обозначил как «пристрастие к Исиде» [ Morenz , 1961].
Обращает на себя внимание тот факт, что М. Малэз, использовав в своем труде не только эпиграфические источники, но и археологический материал, в определенной степени согласился с выводами Ж. Бэхлера в том, что касается социального происхождения первых последователей культов Исиды и Сераписа на территории Италии. Основываясь на материалах из Помпе-ев, он подчеркивал, что последователями египетских культов становились далеко не только выходцы с Востока, но и римляне со средним уровнем достатка, а также провинциальные чиновники [ Malaise , 1984, p. 1629–1631]. М. Малез впервые в историографии привел собственные подсчеты [Ibid., p. 1632], согласно которым около 43 % всех последователей имели восточное происхождение: значительная часть из них были либо египтянами, либо александрийскими греками. Таким образом, уже к 1980-м гг. удалось достаточно точно определить этнический и социальный статус населения римской державы, являвшегося движущей силой распространения египетских культов. Причем состав этой части римского общества был весьма пестрым, в него входили женщины, дети, рабы, вольноотпущенники, торговцы, ветераны, солдаты, офицеры, городские чиновники различного уровня и др. ‒ иными словами, представители практически всех слоев общества. Однако, учитывая, что большая часть из них не являлись гражданами Рима, можно сделать вывод о том, что египетские культы на начальном этапе своего распространения на территории Италии привлекали преимущественно социальных «аутсайдеров», поскольку приверженность данным культам обеспечивала им интеграцию в общество посредством религии.
Нельзя не упомянуть фундаментальный труд Л. Видмана Sylloge Inscriptionum Religionis Isiacae et Sarapiacae [ Vidman , 1969], увидевший свет в 1969 г. и собравший все известные надписи, относящиеся к культам Исиды и Сераписа за пределами самого Египта. Высокий уровень обработки материала, а также знание источников, дополненное исчерпывающими комментариями, позволило работе Л. Видмана во многом не потерять свою актуальность вплоть до наших дней.
Вопросы поиска причин популярности египетских культов у различных представителей римского общества впервые поднимались еще в конце XIX в., когда Э. Гиме выделил женщин и вольноотпущенников в качестве аудитории, наиболее увлеченной культом Исиды [Guimet, 1896, p. 155–160]. Данный культ, по его мнению, с готовностью принимал и интегрировал всех, кто не мог в полной мере пользоваться правами римского гражданина. Далее уже в 1975 г. вышла монография С. К. Хейоб, посвященная поклонению культу Исиды среди женщин в грекоримском мире [Heyob, 1975]. Автор пыталась доказать, что женщины с большим рвением стремились принять культ Исиды, чтобы удовлетворить потребности, которые ни греческая, ни римская религия не могла осуществить [Ibid., p. 80]. Иными словами, исключительные мате- ринские качества, образ верной супруги привлекали женщин к Исиде значительно больше, нежели схожие греко-римские божества. Вместе с тем на основе исследования эпиграфического материала С. К. Хейоб пришла к выводу, что женщины отнюдь не составляли большинство среди последователей культа египетской богини [Ibid., p. 81].
Следующий важный этап интереса к культам египетских богов в Риме и Италии пришелся на середину 1990-х – начало 2000-х гг., был связан с выходом новых исследований и проведением трех крупных международных конференций в 1999 г. [De Memphis à Rome..., 2000], 2002 г. [Isis en Occident..., 2004], 2005 г. [Nile into Tiber..., 2007].
К началу 1990-х гг. научное сообщество, опираясь на все чаще появляющиеся декон-структивистские исследования восточных культов на территории Римской империи, постепенно стало менять не только подходы, но и идущую еще со времен Ф. Кюмона терминологию. Показательным в этом смысле выглядит история с впечатляющим по глубине исследования трудом Р. Туркана «Восточные культы в римском мире» [ Turcan , 1989], который после перевода на английский язык в 1996 г. получил новое название «Культы Римской империи» [ Turcan , 1996]. В это же время преемники М. Дж. Вермасерена переименовали серию EPRO в Religions in the Graeco-Roman World (RGRW).
Знаковой работой, безусловно, следует назвать монографию С. Такаш «Исида и Серапис в римском мире» [ Takács , 1997]. Это первая работа, в которой столь безапелляционно указывается на ошибочность предшествующих представлений относительно характера распространения египетских культов на территории римской державы. Избрав хронологические границы от периода поздней Республики до установления Домината, С. Такаш отдельно рассматривает особенности распространения культов в рейнских и дунайских провинциях.
Автор уверенно отвергает заблуждение о политической направленности культа Исиды в Риме и Италии. По ее мнению, такие представления основаны на ложных постулатах [Ibid., p. 204]. Основной из них заключается в том, что культ Исиды с его ритуалами очищения, воздержания и инициации (элементами, свойственными в том числе любым другим мистическим культам) заложил основу последующей успешной интеграции христианства. Учитывая, что раннее христианство имело выраженные социально-политические устремления, культ Исиды, будучи его предшественником, по этой логике не мог не иметь аналогичных целей. С. Такаш подчеркивает, что даже несмотря на то, что действия властей в правление Августа и Тиберия в отношении египетских культов имели политический оттенок, в своей основе они были направлены не против культов как таковых, а против их последователей, чьи действия могли провоцировать определенную нестабильность в обществе.
Что касается самого процесса распространения новых религиозных идей в римской державе, то в его основе С. Такаш видит стремление Рима стать доминирующей силой в Средиземноморье. В результате неизвестные ранее на территории Италии религиозные верования, преимущественно в измененной форме, стали частью собственно римского мироощущения. После правления Калигулы и Нерона, подражавших птолемеевской концепции божественного правителя, апогеем такого рода трансформации автор называет приход к власти Флавиев, которые, подчеркивая значимость Александрии в претензиях Веспасиана на власть, фактически дали культам Исиды и Сераписа статус имперских божеств. Таким образом, культ Исиды, предлагавший не просто набор ритуалов, а космогонические представления, определявшие место каждого человека в мире, а также подчеркивающий божественную возможность управлять вселенной в одиночку, по мнению С. Такаш, просто не мог не быть спроецирован на земную сферу, где восприятие императора как живого бога было лишь вопросом времени.
В 1997 г. в Милане состоялась выставка Iside, il mito, il mistero, la magia [Iside..., 1997], открывшая широкой публике богатство и разнообразие источников по культу Исиды, тем самым придав новый импульс исследованиям. Уже через два года, в 1999 г., французский египтолог, специалист по истории религий Древнего мира Л. Брико организовал первую тематическую конференцию – Международный симпозиум по изучению культа Исиды, которая состоялась в г. Пуатье французского департамента Вьенна. Ведущие мировые историки, впервые собравшиеся для столь масштабного обсуждения темы Исиды, дали свою оценку историографии, появившейся за последние 40 лет, сосредоточившись также на изучении процессов эллинизации культа египетской богини и роли римских солдат в распространении восточных верований на территории Италии. Именно в рамках этой конференции Ж. Леклан предложил использовать неологизм «исидо-логия» (isiacologie) [Leclant, 2000, p. xxii]. Успех первого семинара позволил провести вторую конференцию с аналогичным количеством участников, которая состоялась в Лионе в 2002 г. Ее материалы, равно как и первого семинара, были опубликованы под редакцией Л. Брико.
Третья конференция, состоявшаяся в Лейдене в мае 2005 г., несмотря на схожее название, имела значительно более широкие тематические границы. В частности, рассматривались вопросы интерпретации и значения объектов Aegyptiaca Romana , исследования культа Исиды во взаимосвязи с местным географическим контекстом (на примере Балкан, Греции и Восточного Средиземноморья) и, разумеется, роль Египта и египетской религии в римском мире.
Результатом состоявшихся дискуссий стала констатация факта, что в более ранних исследованиях отчетливо прослеживается тенденция к излишнему преувеличению религиозного аспекта. Иными словами, необходимо отказаться от сложившейся традиции доминирования тематики распространения культа Исиды и других египетских богов в изучении взаимоотношений Египта и Рима в пользу рассмотрения религиозной составляющей как части более широкого процесса кросс-культурной коммуникации в античном мире.
Нельзя не отметить и появление в 2008 г. специальной серии книг Bibliotheca Isiaca под редакцией Л. Брико и Р. Веймье, где представлены не только новые аналитические материалы по заявленной теме, но и критические историографические обзоры, наглядно иллюстрирующие экспоненциальный рост публикаций начиная с 2000 г.
В течение последних двадцати лет интерес к тематике распространения египетских культов на территории римской державы сохраняется на стабильно высоком уровне, что связано в первую очередь с набирающим популярность направлением изучения формирования цивилизационной идентичности в рамках кросс-культурных контактов в античном мире. Ключевой особенностью многих таких исследований является поиск новых тематических горизонтов, не всегда напрямую связанных с египетской религиозной экспансией как таковой.
Необходимо выделить публикацию материалов 6-й международной конференции по изучению Исиды под редакцией В. Гаспарини и Р. Веймье, состоявшейся в 2013 г. [Individuals and Materials..., 2018]. Авторы пытаются разобраться во множестве вопросов, связанных с мотивами принятия египетских верований, ожиданиями, особенностями практик, которые могли побудить человека стать последователем культа. В духе последних тенденций авторы старательно избегают рассуждений о египетских культах в Риме как о некой закрытой системе верований, напротив, пытаются установить различные особенности римской интерпретации применительно к конкретным обстоятельствам и историческим периодам.
В последние несколько лет изучение распространения культа Исиды в античном мире в западноевропейских и североамериканских исследованиях продолжило развиваться значительными темпами. Из всего спектра можно выделить несколько наиболее значимых работ, в которых под новым ракурсом рассматриваются и сами эллинизированные египетские божества, и их влияние на местные культурные традиции. Сюда можно отнести обширную статью Л. Бри-ко, посвященную образам египетских богов на греко-римских монетах [ Bricault , 2015]. Автор представляет обзор развития монет с изображениями Gens Isiaca в эллинистический период и далее вплоть до Домината в Римской империи. Ключевой особенностью работы является контекстуальный анализ, позволяющий прояснить значение образов, в том числе с учетом конкретного хронологического периода.
В еще одной публикации «Египтианизмы: присвоение Египта в культе Исиды в грекоримском мире» [Gasparini, Gordon, 2018, p. 571–606] В. Гаспарини и Р. Гордон обращаются к вопросу терминологии. Авторы отмечают, что многочисленные труды, затрагивающие т.н. gens isiaca, задействуют целый ряд терминов, указывающих на историко-географическое происхождение культов Исиды и Сераписа из долины Нила. Параллельно эти же культы часто обозначают по характерным особенностям, связанным с некоторыми трансформациями в угоду новых последователей (греко-египетские, эллинистические и т.д.). В своей статье авторы предлагают отказаться от использования термина «распространение» применительно к культу Исиды и заменить его понятием «непрерывного созидания» (continuous creation).
Одной из самых последних работ следует назвать монографию Л. Мазурек «Исида в глобальной империи. Греческая идентификация через египетскую религию в римской Греции» [ Mazurek , 2022]. Несмотря на то что само исследование не затрагивает напрямую тему распространения египетских культов в Риме и Италии, автор обращается к важному вопросу становления Римской империи и вовлечения в этот процесс религиозных воззрений из новых провинций. По мнению Л. Мазурек, египетское происхождение богини было настолько важной частью ее репрезентации, что оно, очевидно, должно было играть ключевую роль и в ее привлекательности. При этом поиски причин упадка интереса к культу Исиды автор игнорирует, ссылаясь на то, что данный вопрос она оставляет открытым для «следующих поколений исследователей» [Ibid., p. 191]. Обращает на себя внимание вывод, к которому приходит Л. Мазурек, представляющий особое значение для теоретического понимания функционирования процессов кросс-культурных контактов на примере религиозного синтеза. По ее мнению, египетская культура стала для греков чем-то, что можно было не только перенимать, но и «приручить», а также воспроизводить на своей земле и на своих условиях. Иными словами, ключевой становится не сама египетская культура с ее характерной привязкой к географической среде долины Нила, а представления о ней, которые начинают существовать в отрыве от оригинального источника.
Что касается отечественной историографии, то, вопреки тенденциям, сложившимся в западноевропейской научной школе, тематика распространения культа Исиды и других египетских богов практически не нашла своего отражения в научных изысканиях. Примечательно, что все исследования по данному направлению увидели свет исключительно в периодических изданиях. Это наглядно подчеркивает отсутствие масштабных работ в этой области на русском языке. Кроме публикаций автора [ Чисталев , 2012 a ; Чисталев , 2012 b ], можно выделить несколько статей В. З. Куватовой, а также недавнюю статью О. В. Томашевич «Домициан, сын Исиды» [ Томашевич , 2021].
В работе «Египетские религиозные культы в монументальной живописи Римской империи» [ Куватова , 2018, с. 27–36] В. З. Куватова подчеркивает, что соприкосновение Рима с многовековой традицией эллинизированного Египта привело к открытию границ для египетского культурного влияния. Рассматривая римскую иконографию египетских богов, автор приходит к выводу, что Исида отчетливо осознавалась в Римской империи как египетская богиня, а ее культ – как египетский [Там же, с. 35]. В другой статье «Особенности эллинизированных египетских культов в Римской империи» [ Куватова , 2019, с. 45–55] В. З. Куватова предпринимает попытку выявить специфику распространения египетских культов на территории Римской империи и определить причины их популярности. Автор отмечает, что активному проникновению египетских божеств в римскую культуру способствовало сочетание нескольких факторов: функциональное и иконографическое разнообразие культов; интенсивные культурные контакты в рамках расширяющейся античной ойкумены; высокий статус египетской культуры; слом цивилизационной парадигмы в поздней Римской империи, который привел к смене религиозных представлений [Там же, с. 54–55].
-
О. А. Томашевич в своей статье уделяет особое внимание памятникам римского Беневен-та, связанным с культом Исиды. Сравнивая действия Домициана с политикой Аменхотепа III и Рамзеса II, она вслед за В. Н. Парфеновым [ Парфенов , 2016, с. 717–718] утверждает, что римский император последовательно проводил «добровольно-принудительное» внедрение своего божественного культа, начиная с периферии империи [ Томашевич , 2021, с. 97]. Соответственно, и симпатии Домициана к культу Исиды она склонна объяснять не столько интересом к египетскому культу как таковому, сколько к божественному статусу фараонов, поддерживаемому египетской богиней [Там же, с. 92].
В заключение необходимо отметить, что исследования распространения культов Исиды и других египетских богов на территории римской державы за последние двадцать лет подверглись значительному переосмыслению. В первую очередь была поставлена под сомнение априорная интерпретация всего спектра кросс-культурного взаимодействия как построенного исключитель- но на религиозной основе. Кроме того, распространение культа Исиды было в значительной степени контекстуализировано: сам процесс перестал рассматриваться как исключительно религиозный, добавились новые горизонты интерпретации, такие как конструирование собственной (римской) идентичности, эллинизация, романизация. Все это открывает дополнительные возможности включения указанной темы в более широкое исследование кросс-культурных контактов в античном мире. Кроме того, обращение к теме распространения египетских культов в Римской империи создает в отечественном антиковедении значимые предпосылки к разработке тематики, продолжающей набирать популярность в зарубежном научном сообществе.
Список литературы Проблема экспансии египетских культов в римской державе: стереотипные представления и современное переосмысление вопроса
- Куватова В.З. Египетские религиозные культы в монументальной живописи Римской империи // Тр. Ин-та востоковедения РАН. 2018. № 9. С. 27–36.
- Куватова В.З. Особенности эллинизированных египетских культов в Римской империи // Вест-ник Ин-та востоковедения РАН. 2019. № 3(9). С. 45–55.
- Томашевич О.А. Домициан, сын Исиды // Nuntia vetustatis. Памяти Ии Леонидовны Маяк: сб. науч. ст. / отв. ред. Н.В. Бугаева. СПб.: Алетейя, 2021. С. 86–100.
- Парфенов В.Н. Владыка и бог. Домициан. Характер императорского культа при последнем Фла-вии // Боги среди людей. Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и римском мире / ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Ладынин. М.; СПб.: Русская Христианская Гуманитарная академия, 2016. С. 682–721.
- Чисталев М.С. Поклонение животным: египетская религиозная экзотика в восприятии римлян // Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2012a. № 6(3). С. 186–194.
- Чисталев М.С. Реакция римских властей на распространение египетских культов в Риме (I в. до н.э. – I в. н.э.) // Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2012b. № 5(1). С. 193–200.
- Baechler J. Recherches sur la diffusion des cultes isiaques en Italie du iie s. av. au iie s. apr. J.-C., thèse dactylographié de doctorat (sociologie). Strasbourg: Université de Strasbourg, 1959. 150 p.
- Beaujeu J. La Religion romaine à l'apogée de l'Empire. Paris: Belles lettres, 1955. 455 p.
- Bricault L. The Gens Isiaca in Graeco-Roman Coinage // The Numismatic Chronicle. 2015. Vol. 175. P. 83–102.
- Cumont F. Oriental Religions in Roman Paganism. Chicago: The Open Court Publishing Company, 1911. 298 p.
- De Memphis à Rome: Actes du Ier Colloque International sur les Études Isiaques, Poitiers – Futuro-scope, 8–10 avril 1999 / ed. L. Bricault. Leiden: Brill, 2000. 216 p.
- Gasparini V., Gordon R.L. Egyptianism: Appropriating «Egypt» in the «Isiac Cults» of the Graeco-Roman World // Acta Antiqua. 2018. Vol. 58(1-4). P. 571–606.
- Guimet E. L'Isis romaine // Extrait des comptes rendus de l'Acad. des inscriptions et belles-lettre. 1896. P. 155–160.
- Heyob S.K. The cult of Isis among women in the Graeco-Roman world. Leiden: Brill, 1975. 140 p.
- Hopfner T. Fontes historiae religionis Aegyptiacae. Bonnae: Marcus et Weber, 1922. 286 S.
- Individuals and Materials in the Greco-Roman Cults of Isis. Agents, Images and Practices. Proceedings of the VIth International Conference of Isis Studies, Erfurt, May 6‒8 – Liège, September 23‒24 2013 / eds. V. Gasparini, R. Veymiers. Leiden: Brill, 2018. 1145 p.
- Iside. Il mito, il mistero, la magia / ed. E.A. Arslan. Milano: Electa, 1997. 728 p.
- Isis en Occident. Actes du IIème Colloque international sur les études isiaques, Lyon III 16‒17 mai 2002 / ed. L. Bricault. Leiden: Brill, 2004. 510 p.
- Lafaye G. Histoire du culte des divinités d'Alexandrie Sérapis, Isis, Harpocrate et Anubis hors de l'Égypte depuis les origines jusqu'a la naissance de l'école Néo-Platonicienne. P.: Ernest Thorin, 1884. 342 p.
- Lambrechts P. Augustus en de Egyptische Godsdienst. Brussel: Paleis der Academiën, 1956. 35 p.
- Leclant J. 40 ans d’études isiaques: un bilan // De Memphis à Rome: Actes du Ier Colloque International Sur les Études Isiaques, Poitiers – Futuroscope, 8–10 avril 1999 / ed. L. Bricault. Leiden: Brill, 2000. P. xix–xxv.
- Leclant J. Notes sur la propagation des cultes et monuments égyptiens, en Occident, à l'époque impériale // Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale. 1956. Vol. 1. P. 173–179.
- Leclan J. Reflets de l'Egypte dans la littérature latine d'après quelques publications récentes // Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg. 1959. № 6. P. 303–308.
- Malaise M. La diffusion des cultes égyptiens dans les provinces européennes de l'Empire romain // ANRW / hrsg. von W. Haase, H. Temporini. Tl. II. Bd. 17.4. B.; N. Y., 1984. P. 1615–1691.
- Malaise M. Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Italie. Leiden: Brill, 1972. 543 p.
- Mazurek A. Isis in a Global Empire: Greek Identity Through Egyptian Religion in Roman Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. 278 p.
- Morenz S. Vorträge und Referate (Ausführliche Fassung) Ägyptische Nationalreligion und sogenannte Isismission // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1961. Vol. 111. P. 432–436.
- Nile into Tiber. Egypt in the Roman World / ed. L. Bricault, M.J. Versluys, P.G.P. Meyboom. Leiden: Brill, 2007. 562 p.
- Roussel P. Les cultes égyptiens à Délos du IIIe au Ier siècle av. J.-C. Paris: Berger-Levrault, 1916. 301 p.
- Takács S.A. Isis and Sarapis in the Roman world. Leiden: Brill, 1997. 235 p.
- Tran Tam Tinh V. Etat des études iconographiques relatives à Isis, Sarapis et aux Sunnaoi Theoi // ANRW / hrsg. von W. Haase, H. Temporini. Tl. II. Bd. 17.3. B.; N. Y., 1984. P. 1710–1730.
- Tran Tam Tinh V. Le culte des divinités orientales à Herculanum. Leiden: Brill, 1971. 104 p.
- Tran Tam Tinh V. Le culte des divinités orientales en Campanie en dehors de Pompéi, de Stabies et d'Herculaneum. Leiden: Brill, 1972. 261 p.
- Turcan R. Les cultes orientaux dans le monde romain. Paris: Les Belles Lettres, 1989. 397 p.
- Turcan R. The cults of the Roman Empire. Oxford: Blackwell, 1996. 399 p.
- Vidman L. Sylloge Inscriptionum Religionis Isiacae et Sarapiacae. Berlin: De Gruyter, 1969. 390 S.
- Witt R.E. Isis in the Ancient World. Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 1971. 336 p.