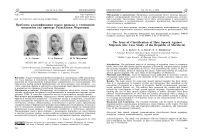Проблема классификации языка вражды в отношении мигрантов (на примере Республики Мордовия)
Автор: Сычев Андрей Анатольевич, Жадунова Наталья Владимировна, Коваль Екатерина Александровна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы
Статья в выпуске: 4 (105) т.26, 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение. Анализ освещения проблем миграции в электронных СМИ показывает, что язык вражды в отношении мигрантов становится общеупотребительным, несмотря на существующие нормативные ограничения его использования. Это определило выбор данной проблематики для исследования, цель которого - изучить причины, формы и контексты использования языка вражды по отношению к мигрантам (на примере Республики Мордовия). Материалы и методы. Материалами исследования послужили тексты, посвященные проблемам миграции и опубликованные в электронных версиях региональных СМИ. В качестве основного метода использовался дискурс-анализ. Результаты исследования. Определена главная причина использования языка вражды в отношении мигрантов - негативные клише и стереотипы, способствующие восприятию мигрантов как источника экономических, медицинских, экологических, личных, общественных, политических и других угроз. Предложены содержательные и формальные критерии классификации языка вражды, используемого в отношении мигрантов. Сформулированы рекомендации по ограничению применения языка вражды в отношении мигрантов в публичном дискурсе. Рекомендации такого рода связаны с изменением риторики на текстуальном и контекстуальном уровне, однако наиболее важным представляется изменение метаконтекстуального уровня освещения и восприятия проблем миграции. Обсуждение и заключение. Материалы исследования будут полезны при разработке миграционной политики и мер по гармонизации социальных отношений в регионе. Полученные данные могут быть использованы в деятельности государственных и муниципальных служащих, журналистов, представителей педагогического сообщества.
Язык вражды, мигрант, коммуникация, классификация, угроза, нормативное ограничение, контекст, метаконтекстуальность, региональные сми
Короткий адрес: https://sciup.org/147222798
IDR: 147222798 | УДК: 314.7 | DOI: 10.15507/2413-1407.105.026.201804.798-815
Текст научной статьи Проблема классификации языка вражды в отношении мигрантов (на примере Республики Мордовия)
Acknowledgments. The study was conducted with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research as part of research projects No. 17-03-00094 and No. 17-03-00370.
Введение. Коммуникации в современном публичном пространстве отличаются повышенным уровнем конфликтности, особенно в тех случаях, когда вопросы о базовых нормах и ценностях обсуждаются субъектами с разными убеждениями и мировоззренческими позициями. Коммуниканты нередко проявляют в отношении друг друга речевую агрессию, применяя язык вражды, под которым понимается совокупность слов, выражений, изображений, дискредитирующих нормативный статус личности или группы. Одним из факторов использования языка вражды является стремление противопоставить «своих» и «чужих», наделяя первых положительными характеристиками, а вторых - сугубо отрицательными, что, как правило, обусловлено принадлежностью субъектов коммуникативного процесса к различным этническим, конфессиональным, политическим, гендерным, возрастным группам. Примером конфликтной коммуникации такого рода является целенаправленное использование языка вражды в адрес мигрантов.
В последние десятилетия количество негативных стереотипов и клише в отношении мигрантов, тиражируемых различными СМИ, увеличивается. При этом обсуждение проблем миграции осуществляется как с использованием негативных эмоциональных суждений оценочного характера, так и при помощи манипулирования объективными фактами и статистическими данными, что в итоге приводит к формированию в обществе устойчивых предубеждений по отношению к мигрантам.
Особенности коммуникаций в сети Интернет усугубляют эту проблему, поскольку анонимность и дистанцированность авторов и комментаторов сообщений от объектов обсуждения провоцируют такое речевое поведение, которое в случае непосредственного контакта рано или поздно перевело бы конфликт с вербального на физический уровень воздействия.
Все это не способствует снижению уровня агрессии в публичном пространстве. Для поиска ориентиров, способных ослабить конфликтность и перевести коммуникацию в конструктивное русло, необходимо обнаружение причин частого использования языка вражды в публичном дискурсе и условий, способствующих его восприятию как нормы общения.
Целью данной статьи является исследование причин, форм и контекстов употребления языка вражды в отношении мигрантов в структуре регионального дискурса (на примере Республики Мордовия).
Для достижения поставленной цели предполагается определить негативные стереотипы и клише, продуцируемые и поддерживаемые электронными СМИ в отношении мигрантов; типологизировать факты употребления различных видов языка вражды; изучить контексты употребления такого языка; сформулировать рекомендации по нормативному регулированию освещения проблем миграции в публичном дискурсе.
Ключевые понятия исследования:
-
- мигрант - лицо, совершающее перемещение на новое место временного или постоянного проживания;
-
- язык вражды - слова, выражения, изображения, видео- и аудиозаписи, демонстрируемые публично с целью выражения ненависти и недопущения в качестве нормы таких признаков конкретного лица или группы лиц, как пол, возраст, раса, национальность, политические, религиозные, мировоззренческие позиции и убеждения;
-
- нормативные ограничения - система норм и принципов, основанных на понуждении личности к нормативному поведению.
Результаты исследования позволят расширить существующие классификации языка вражды, а также определить способы ограничения его использования в публичном дискурсе при освещении проблем миграции.
Обзор литературы. Понятие «язык вражды» стало использоваться в современном публичном дискурсе для определения способа дискриминации и выражения нетерпимого отношения к определенным лицам и группам. Так, Комитет министров Совета Европы под языком вражды понимает «все формы самовыражения, которые включают распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или этноцентризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями»1.
Перечень признаков, на основании которых осуществляется дискриминация, постоянно расширяется: появляются работы, посвященные исследованию нетерпимого отношения к людям по признаку их внешнего вида, наличию социально значимых заболеваний и т. и.
Язык вражды в анализируемом контексте долгое время не был предметом обсуждения в научных исследованиях и публичных дискуссиях. Чаще всего в фокусе внимания оказывались проблемы речевой агрессии, вербализации насилия, речевой демагогии, манипулятивных технологий, идеологического конструирования образа врага и другие (В. Ю. Апресян2, Т. А. Воронцова, Т. Р. Копылова [1; 2], А. В. Денисова [3], Ю. А. Ильичева [4] и др.). Потребности в особом выделении языка вражды как способа дискриминации личности, социальной группы долгое время не возникало из-за отсутствия соответствующего политико-правового контекста.
С распространением идеологии толерантности, политики мультикультурализма, идеи «обратной дискриминации» язык вражды все чаще оказывается в центре внимания социальных и гуманитарных исследований. Большинство современных исследований проводятся в русле психологического, лингвистического, правового и социологического подходов.
В психологическом подходе акцент делается на особенностях восприятия языка вражды, анализе таких явлений, как стереотипизация мышления, социальные ожидания, манипуляция, убеждение и внушение (М. В. Кроз, Н. А. Ратинова и др.)3.
Лингвистический подход направлен на изучение текстуальных (лексических, морфологических, стилистических) средств выражения враждебности в языке (А. И. Грищенко, Н. А. Николина4, А. В. Евстафьева5, О. С. Коробкова [5], М. А. Кронгауз 6 [6], О. В. Мороз7, А. И. Спожа-кина [7] и др.). В этом подходе язык вражды понимается прежде всего как «лингвистически выраженная интолерантность» [5, с. 201].
В правовом подходе внимание акцентируется на нормативно-правовых аспектах идентификации языка вражды, применения санкций за его использование, степени объективности судебно-лингвистической экспертизы (А. В. Денисова8, Г. Ю. Арапова, С. И. Кузеванова, М. А. Ледовских9, Е. А. Сычев, Л. Л. Мартынова [8], А. Браун [9]).
Наконец, в рамках социологического подхода исследуется не только частотность и контекст употребления языка вражды в публичном пространстве, но и социальные причины и условия, способствующие его распространению, особенности конфликтных дискурсов (А. М. Верховский |0, Г. В. Кожевникова, И. М. Дзялошинский [10], М. А. Пилгун [И],
M. О. Карпенко, Л. Л. Шпаковская, E. Ю. Кольцова, Ф. И. Торчинский, Д. В. Дубровский ", М. А. Фадеичева [12] и др.), в том числе с учетом региональной специфики (О. А. Богатова 12, С. В. Полутин, А. М. Чушкин 13, С. Г. Ушкин [13] и др.). Как правило, объектом социологических исследований языка вражды являются СМИ, а предметом - тексты, в которых фиксируется прямая или косвенная дискриминация социальных групп на основании национальной принадлежности, религиозных убеждений, сексуальных предпочтений.
Сложность языка вражды как социального феномена обусловливает необходимость сочетания подходов и методов, разработанных в разных областях научного знания. В частности, изучение особенностей языка вражды по отношению к мигрантам не может ограничиваться количественными методами, оно должно включать в себя анализ негативных стереотипов, существующих в культуре, учитывать речевые, психологические и соционормативные аспекты обсуждения проблем миграции в публичном пространстве.
Из всего спектра современных подходов именно социологический позволяет синтезировать различные аспекты исследований языка вражды и предложить целостную интерпретацию различных его проявлений. В качестве примеров такой интерпретации можно привести ряд работ, посвященных анализу мигрантофобии в России (Н. В. Шилов [14]), Чехии (М. Хрдина [15]), Австралии (К. Гелбер, Л. Макнамара [16]) и др. Эти работы, опубликованные в последние годы, наглядно свидетельствуют о том, что проблема использования языка вражды по отношению к мигрантам остается актуальной для различных регионов мира. В этой связи появляется необходимость разработки единой системы классификации языка вражды, способной охватить основные его типы на различных смысловых уровнях исследования.
И. М. Дзялошинский предлагает сугубо формальные критерии классификации, полагая, что для выявления и анализа языка вражды следует «рассматривать не только тексты, но и средства визуализации - заголовки, фотографии и иные элементы оформления»14.
В известной классификации, предложенной сотрудниками информационно-аналитического центра «Сова», по основанию степени агрессивности коммуникации выделяются жесткий, средний и мягкий языки вражды |5.
И. В. Следзевский, В. Р. Филиппов, Е. О. Хабенская, изучая язык вражды, применяемый по признаку национальной принадлежности стигматизируемых субъектов, выделяют негативные этнические стереотипы, перенос отрицательных характеристик с отдельных представителей на весь этнос, утверждение о наличии тайного заговора одной этнической группы против другой, угрозы в отношении определенной нации, призывы ограничить права представителей определенной нации и т. д.16.
Белорусскими исследователями А. Крушинской и А. Игнатовичем предложена следующая классификация: оскорбление чести и достоинства, стигматизирующая репрезентация, дискриминационная лексика, негативная стереотипизация, оправдание насилия и призыв к насилию 17.
Отметим, что в двух последних примерах смешиваются различные основания для классификации (лексические, стилистические, психологические, правовые), из-за чего выявленные типы языка вражды частично пересекаются друг с другом (например, призыв к ограничению прав можно рассматривать как угрозу, а дискриминационную лексику - как один из способов оскорбления чести и достоинства). Кроме того, они содержательно не охватывают всех примеров языка вражды (в частности, тех случаев, когда отрицательное отношение формируется под видом объективного описания фактов). Это свидетельствует о необходимости разработки новых классификаций, не только дополняющих и расширяющих существующие, но и интегрирующих их в единую систему.
Материалы и методы. Материалами исследования являются тексты, посвященные проблемам миграции и опубликованные в 2017 г. в электронных версиях региональных СМИ («Столица С», «Вечерний Саранск», «Известия Мордовии»), комментарии пользователей к ним, а также сообщения, публикуемые на региональном форуме saransk.ru -«Саранский городской форум».
Выбор материалов обусловлен спецификой предмета исследования. По данным ВЦИОМ, в последние годы существует тенденция перемещения печатных СМИ на периферию медиапространства 18. Телевидение
пока остается ведущим способом получения информации, однако оно не предоставляет таких возможностей для индивидуального самовыражения, как Интернет. Во многом эта ситуация вызвана отсутствием жестких ограничений при обмене мнениями пользователей на информационнокоммуникационных площадках Интернета. В итоге именно он оказывается основным пространством для функционирования языка вражды.
Из всего массива статей по ключевому слову «мигрант» были отобраны 25 публикаций газеты «Столица С», 27 - «Известия Мордовии», 80 - «Вечерний Саранск» и 8 тем на региональном форуме. Выполнение частотного анализа элементов языка вражды в отношении мигрантов в итоговой выборке оказалось невозможным по причине отсутствия словаря такого языка, а также из-за того, что большинство его элементов несут соответствующую смысловую нагрузку только в определенном контексте. Поэтому был проведен качественный анализ содержания материала, после чего отобрано 37 статей и высказываний.
Если журналистов, публикующих материалы в региональных СМИ по проблемам миграции, можно идентифицировать, то авторы комментариев и сообщений на форумах (в которых язык вражды неоднократно принимает крайние формы) часто остаются неизвестными. Именно эта сетевая анонимность и является условием перевода враждебности из латентного состояния в явное. В ситуации анонимности субъекта враждебности о нем можно судить лишь на основании того, о чем он высказывается. Соответственно, в исследовании использован метод дискурс-анализа 19, под которым понимается изучение языковых паттернов, обусловливающих публичные высказывания участников коммуникации в различных сферах общественной жизни. Нас интересовали, главным образом, «враждебные» паттерны, адресованные мигрантам. Акцент сделан на структуре дискурса о миграции в региональных СМИ (на примере Республики Мордовия).
Использование дискурс-анализа позволяет исследовать обсуждение проблем миграции в условиях конкуренции политкорректного и враждебного по отношению к мигрантам дискурса. При этом если второй формирует и воспроизводит негативные стереотипы о мигрантах, то первый ориентирован на разрушение таких стереотипов, но не на формирование положительного образа мигранта.
Поскольку дискурс является формой социального поведения, «которая участвует в формировании социального мира»20, дискурс-анализ -не только исследовательский метод, но и, по мнению П. Бергера и Т. Лукмана, механизм конструирования социальной реальности21. Ис-
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ пользование дискурс-анализа позволяет не только выявлять и описывать проблемы и их ценностно-нормативные нюансы, но и обнаруживать если не конкретные пути реконструкции дискурса, то точки бифуркации, в которых возможно изменение сложившейся системы коммуникации.
Результаты исследования. Анализ использования языка вражды по отношению к мигрантам позволил выявить основные содержательные и формальные критерии для его классификации.
Всякое негативное высказывание в адрес мигранта, как правило, основывается на убеждении в том, что миграция представляет угрозу для целостности, гармоничности, безопасности общества. С этой точки зрения наиболее адекватным критерием для содержательной классификации языка вражды необходимо считать угрозы, источником которых в сознании обывателей считаются мигранты.
Выделенные в ходе исследования негативные стереотипы в отношении мигрантов, циркулирующие в публичной коммуникации, логично распределяются по нескольким группам, в целом соответствующим классификации основных сфер безопасности человека, предложенных ООН. В «Докладе о человеческом развитии» 1994 г. выделяются экономическая, продовольственная, медицинская, экологическая, личная, общественная, политическая сферы безопасности22. Предлагаемая нами содержательная классификация языка вражды отображает угрозы, соответствующие этим семи сферам.
Прежде всего, мигранты рассматриваются как угроза экономической безопасности. Как в научном дискурсе, так и в комментариях интер-нет-пользователей высказываются опасения, что мигранты «отнимают» рабочие места у местного населения и устанавливают контроль над рынком: «Мигранты обостряют конкуренцию за рабочие места на рынке труда и часто имеют большие шансы на получение работы, чем жители республики»23 (здесь и далее орфография и пунктуация реципиентов сохранены. - Примем, авт. ); «Они тут сплошь и рядом торгуют или вообще ничего не делают, вся местная торговля у них в руках через подставных лиц»24.
Мигранты также нередко воспринимаются как угроза продовольственной безопасности (страх остаться без средств к существованию, отсутствие возможности прокормить себя и семью из-за увеличения количества мигрантов): «Претендуя на трудоустройство и социальные
выплаты, вы что-то отбираете у местного населения, и оно относится к вам совсем по-другому...»25.
Мигранты, по мнению местного населения, представляют угрозу для здоровья (боязнь заразиться от мигрантов, которые могут быть переносчиками различных инфекций): «В Саранске за прошлый год скончались 34 больных. Это больше, чем в предыдущие годы. Впрочем, количество выявленных инфицированных тоже выросло на 26 %. Медики связывают это, прежде всего, с увеличением числа мигрантов и беженцев из Украины»26.
Реже мигранты воспринимаются как угроза экологической безопасности («сложный» страх: мигранты отрицательно воздействуют на окружающую среду из-за перенаселения определенных территорий, из-за повышенной нагрузки на эти территории, связанные с выбросом отходов; из-за нарушения правил гигиены; из-за отсутствия заинтересованности в процессе осуществления трудовой и иной деятельности минимизировать свой экологический след и др.): «...Есть у меня знакомый, родился в Украине, но несколько лет назад переехал в Германию. ...Говорит, что возмущается поведением мигрантов. Как те мусорят из окон авто. Однажды ехал по автобану, увидел это и позвонил в полицию. Откуда ни возьмись патрульное авто. Остановили того нарушителя, наказали. Только по звонку настолько там сильно доверие к гражданину. И гражданина к полиции. Нам бы это тоже не помешало»27.
Мигрантов ассоциируют с угрозой личной безопасности (боязнь стать жертвой преступлений, совершаемых мигрантами): «Еще недавний пример - когда трудовыми мигрантами, уроженцами республики Узбекистан, была изнасилована наша землячка. Последствия не стали долго ждать, и представители фанатской среды через интернет кинули клич о “народном сборе”»28.
Мигранты, как полагают многие жители республики, угрожают не только личной, но и общественной безопасности (боязнь образования диаспор, районов с компактным населением мигрантов, где будет некомфортно и опасно жить местному населению; боязнь того, что мигранты, не желая интегрироваться в национальную культуру принимающего со-
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ общества, будут пропагандировать свою культуру и понуждать местное население принимать и поддерживать ее, способствовать ее воспроизводству): «...Понимаете, нашим гражданам зачастую не нравится то, что приезжие пытаются установить на нашей территории свои порядки. Если мы принимаем их, то должны заставить их познать нашу культуру, наш быт, выучить наш язык. Хотя бы на разговорном уровне. Тогда не будет у нас никаких разногласий. Необходимо объяснить приезжим, что у нас своя культура, свои традиции. Примите их, как есть, и живите СПОКОЙНО»29.
Наконец, мигранты рассматриваются как угроза политической безопасности (боязнь того, что мигранты в силу их слабого знакомства с правовой системой принимающего государства, слабой социальной защищенности могут быть вовлечены в политические противостояния, влекущие за собой серьезные внутри- и внешнеполитические проблемы, в том числе эскалацию экстремистской и террористической деятельности): «Из года в год у нас в республике все больше активизируются эмиссары различных религиозных течений, которые распространяют радикальные идеи и материалы экстремистского содержания. То есть радикальные течения и контакты жителей Мордовии с представителями экстремистских организаций зафиксированы и у нас в республике»30.
Возможны и другие критерии для создания содержательной классификации языка вражды, однако, в отличие от имеющихся классификаций, предлагаемый критерий (угрозы безопасности) позволяет охватить все значимые случаи использования языка вражды в отношении мигрантов и подвести их под единый концептуальный базис.
В определении формальных критериев для классификации языка вражды основные сложности обусловлены, в первую очередь, многообразием средств выражения негативного отношения к личностям, группам, зависящим не только от смысловой нагрузки, но и от контекста, в котором они используются. Так, существует относительно небольшое количество конкретных языковых единиц, которые однозначно понимаются как оскорбительные и враждебные. Большинство языковых единиц являются нейтральными, но способны выражать различные оттенки враждебности в контексте дискурса о миграции. Более того, нередко в общем контексте они приобретают противоположные привычным значения.
Иными словами, язык вражды может выражаться с помощью отдельных эмоционально окрашенных понятий или же выводиться из контекста, в котором те или иные лексические единицы (а иногда и сами тексты)
приобретают соответствующие смысловые акценты. Существующие классификации не учитывают многоуровневости конструирования языка вражды. В этой связи требуется новая классификация, включающая не только собственно текстуальные, но и контекстуальные и метаконтек-стуальные характеристики.
Под текстуальным языком вражды понимается характеристика объекта, выраженная при помощи слов, жестов, изображений, которые имеют устойчивые негативные смыслы. Демонстрация отношения к мигранту может изменяться от легкого пренебрежения («гастеры», «люди второго сорта») до прямого, открытого оскорбления. В последнем случае употребление языка вражды влечет за собой соответствующие правовые последствия (привлечение к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП (Оскорбление), 5.62 КоАП (Дискриминация)31, к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)32 и др.
При использовании контекстуального языка вражды отдельные элементы текста приобретают уничижительное или оскорбительное значение лишь в общем контексте высказывания («черные», «дешевая рабочая сила»). Достаточно распространенной разновидностью контекстуального языка вражды является использование иронии и сарказма («Они сначала приезжают, жалятся, типа мы бедные сирые, прописываются, живут, не любят работать на производстве, чаще торгуют, потихоньку плодятся, а потом объявляют о своей нацавтономии, типа мы тут всегда были и вообще мы тут местные»)33. Кроме того, нередко нейтральное, без агрессивных коннотаций, слово или выражение берется в кавычки, что изменяет его значение («Житель Мордовии "удовлетворил” трех армян»34). Отметим, что на определение контекстуального языка вражды часто влияет субъективная позиция исследователя, его способность и желание «вычитать» из контекста реальную позицию участников коммуникации.
Наконец, метаконтекстуальный язык вражды можно обнаружить лишь на основании комплексного анализа всего медийного дискурса в отношении мигрантов. Так, даже если в отдельных текстах не прослеживаются ни текстуальный, ни контекстуальный языки вражды, это еще не гарантирует того, что участники дискурса не воспроизводят отрицательные стереотипы о мигрантах.
В общем информационном потоке, посвященном общественным проблемам, расстановка смысловых и эмоциональных акцентов осуществляется таким образом, что даже объективные факты воспринимаются как подтверждение того, что мигранты являются одной из основных угроз безопасности.
Так, например, указание в новостных сообщениях на то, что преступление совершено мигрантом, поддерживает стереотип «Все мигранты -преступники». Если аналогичное преступление совершается местным жителем, как правило, не делается акцент на его гражданстве, национальности или вероисповедании. В то же время в СМИ активно используются высказывания «мигранты-мусульмане», обороты с указанием национальности или страны происхождения мигранта («мигрант-таджик», «мигрант-узбек», «мигрант-белорус» и т. и.).
По данным Мордовиястата, к началу 2017 г. в Республику Мордовия из зарубежных стран (прежде всего стран СНГ) прибыли 8 934 чел., что составляет 1,1 % от общего числа жителей, зарегистрированных в республике 35. При этом в нашей стране существует многолетняя традиция гармоничного и мирного сосуществования представителей разных этносов, культур, религиозных сообществ. Тем не менее проблема использования языка вражды в отношении мигрантов на региональном уровне артикулируется в публичном дискурсе, поэтому требуется актуализация нормативных ограничений речевого поведения.
Обсуждение и заключение. Для того чтобы минимизировать случаи использования языка вражды в отношении мигрантов, недостаточно запретов на применение текстуального языка вражды, которые зафиксированы в нормах права (запреты на оскорбление, дискриминацию, возбуждение религиозной ненависти и вражды) и профессиональной этики36. Использование контекстуального и метаконтекстуального языка вражды также должно быть ограничено; такое ограничение прежде всего обращено к каждому человеку, участвующему в публичном обсуждении проблем миграции или иных тем, в которых воспроизводятся негативные клише и стереотипы в отношении мигрантов. Их воспроизводство обостряет проблему восприятия мигрантов как источника реальных или мнимых угроз общественной безопасности.
Сформулируем общие рекомендации, адресованные участникам публичного дискурса о проблемах миграции.
Во-первых, необходимо внедрение действенных механизмов применения существующих формальных санкций за использование языка вражды. Должна быть предусмотрена институциализация ответственности за нарушение норм профессиональной этики журналистами, государственными и муниципальными служащими и другими профессиональными группами. Необходима ревизия профессиональных этических кодексов на наличие норм, предусматривающих самоцензуру, контроль за использованием всех видов и уровней языка вражды со стороны профессионального сообщества, самоконтроль участника публичной коммуникации, а также действенных санкций за их нарушение.
Во-вторых, необходимо усовершенствовать правовые нормы и методические рекомендации, направленные на выработку четких критериев для лингвистической и психолого-лингвистической экспертизы контента, в котором используется язык вражды. Для этого требуется внедрение в практику правоприменения семиотических, этических, социологических экспертиз, которые предполагают использование рекомендуемой авторами классификации языка вражды.
В-третьих, необходимо создавать условия для социальной интеграции мигрантов, их культурной ассимиляции, включающие в себя изменение подходов к освещению проблем миграции, а также просвещение и воспитание населения, изменяющие метаконтекстуальный уровень обсуждения проблем миграции.
В-четвертых, в ситуации конкуренции дискурсов важно учитывать ограниченные возможности политкорректного дискурса, который не может обеспечить формирование положительного образа мигранта. В этой связи перспективно конструирование дискурса на основе такой базовой ценности, как социальное доверие. Переход от политкорректного дискурса к дискурсу доверия означает глобальное переструктурирование, перелом дискурса о миграции в целом. Он не может быть осуществлен формально: недостаточно просто изменить язык, которым описываются проблемы, связанные с миграцией, необходимо, чтобы в общественном сознании образ «хорошего» мигранта конкурировал с образом «плохого» мигранта.
Результаты исследования и предложенные рекомендации имеют теоретическую и практическую значимость для представителей региональной власти, СМИ, а также ученых, занимающихся исследованиями языка вражды. Представляется перспективным применение предложенной классификации языка вражды к другим объектам изучения и в иных региональных контекстах.
Список литературы Проблема классификации языка вражды в отношении мигрантов (на примере Республики Мордовия)
- Воронцова Т. А. Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-коммуникации // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2016. Т. 26, № 2. С. 109-116. URL: http://ru.history.vestnik.udsu.ru/archive/show/5-2016-2-13 (дата обращения: 24.01.2018).
- Воронцова Т. А., Копылова Т. Р. Молчание как маркер агрессивного речевого поведения (на материале бытового общения) // Филологический класс. 2017. № 3 (49). С. 29-33. URL: http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_con tent&view=article&id=1680:lingvistika-v-obrazovani&catid=639&Itemid=320 (дата обращения: 13.02.2018).
- Денисова А. В. Язык вражды: некоторые особенности судебных лингвистических экспертиз // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 36 (77). С. 54-58. URL: https://lib. herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/36(77)/denisova_36_77_54_58.pdf (дата обращения: 10.08.2017).
- Ильичева Ю. А. Мобилизационные технологии: сущность, предпосылки возникновения, основные инструменты и средства [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2013. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/1335 (дата обращения: 12.05.2018).
- Коробкова О. С. Маркеры языка вражды в номинациях этнической принадлежности: социолингвистический аспект // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 111. С. 200-205. URL: https://lib.herzen.spb.ru/m/rgpu-periodic/1/112 (дата обращения: 20.03.2018).