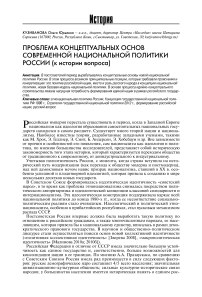Проблема концептуальных основ современной национальной политики России (к истории вопроса)
Автор: Кузиванова Ольга Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2015 года.
Бесплатный доступ
В постсоветский период вырабатывались концептуальные основы новой национальной политики России. В этом процессе возникли принципиальные позиции, которые требовали прояснения и конкретизации: это понятие российской нации, место и роль русского народа в концепции национальной политики, новая базовая модель национальной политики. В основе процесса идейно-концептуального строительства лежала насущная потребность формирования единой нации в рамках российского государства.
Этнонациональная политика России, концепция государственной национальной политики рф 1996 г, стратегия государственной национальной политики 2012 г, формирование российской нации, русский вопрос
Короткий адрес: https://sciup.org/170168009
IDR: 170168009
Текст научной статьи Проблема концептуальных основ современной национальной политики России (к истории вопроса)
Р оссийская империя перестала существовать в период, когда в Западной Европе национализм как идеология образования самостоятельных национальных государств находился в самом расцвете. Существует много теорий нации и национализма. Наиболее известны теории, разработанные западными учеными, такими как М. Хрох, Э. Геллнер, Э. Смит, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум и др. Вне зависимости от причин и особенностей его появления, сам национализм как идеология и политика, по мнению большинства исследователей, представляет собой историческую закономерность того этапа истории, который характеризуется переходом общества от традиционного к современному, от доиндустриального к индустриальному.
Учитывая полиэтничность России, с момента, когда страна вступила на исторический путь модернизации (как перехода к обществу модерна и постмодерна), над ней дамокловым мечом навис призрак национализма, ставший в XX в. особенно успешной и плодотворной идеологией, которая привела к созданию в мире нескольких десятков новых государств.
В Советском Союзе формировалась надэтническая идентичность «советский народ», в то время как проблема этнонационализма снималась посредством политического авторитаризма и идеологической концепции классовой солидарности и интернационализма. Эта идеологическая конструкция поддерживала каркас всей национальной политики до конца 1980-х гг., когда ее несоответствие социальнополитическим реалиям стало очевидным. Идеологический и политический этнонационализм, особенно в прибалтийских республиках, стал пусковым механизмом распада СССР.
Постсоветская Россия впервые должна была выработать такую политику по отношению к российским гражданам, а также многочисленным народам, ее населяющим, которая привела бы к национальному единству, вписалась в рамки демократического правового государства. В научном и общественно-политическом дискурсе стали осуществляться поиски основ новой коллективной идентичности («позитивная коллективная идентичность» [Зверева 2008], «макрополитическая идентичность» [Малинова 2010а; 2010б]).
Российская Федерация в отличие от СССР имела значительно большую устойчивость как единое государство и, соответственно, больше возможностей для консолидации нации в ее границах. По мнению А.А. Празаускаса, по сравнению с Советским Союзом Россия имела ряд преимуществ в силу следующих факторов: русское демографическое ядро составляет 4/5 всего населения; значительная цивилизационно-культурная общность; сильные культурно-исторические связи народов; у большинства населения имеется историческая память о едином рос- сийском государстве; незначительные социальные контрасты между этническими группами [Национальная политика… 1997: 385-394]. Остальные проблемы были решаемы через разработку конституционных и правовых норм демократического федеративного государства, разработку концепции единого многонационального гражданского общества, путем последовательной и взвешенной национальной политики.
В рамках западноевропейской традиции понятие нации – это вопрос гражданской солидарности, которой должно добиваться каждое государство, претендующее на развитие и достойное сосуществование с другими государствами-нациями. В логике постсоветского развития России предстояло стать государством, которое на внутренней и на внешней аренах выступает как единая нация. Но для этого надо было на концептуальном уровне согласовать все аспекты и нюансы внутреннего понимания нации, понимания того, что такое российская нация. В итоге выработка нового понимания нации и национальной политики проходила в рамках полномасштабной деконструкции советской национальной доктрины и политики.
Противоречия между уходящим в историю прежним и зарождающимся новым подходами можно проследить на конкретном примере изменения доктрины национальной политики. При подготовке Концепции государственной национальной политики, первый проект которой был представлен президенту РФ Б.Н. Ельцину еще в 1992 г., наметился конфликт, связанный с разным пониманием «нации» и «национального». Понимание российской нации как гражданской нации и многокультурной политической общности отстаивал директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков, который в то время был председателем Государственного комитета РФ по национальной политике (с февраля по октябрь 1992 г.). Оппонентами выступали представители политического и научного сообщества национальных республик. Наиболее известным из них был Р.Г. Абдулатипов, в то время председатель Совета национальностей Верховного Совета России, а в последующем – министр национальной политики РФ.
Как считал В.А. Тишков, российская нация имеет право на существование в том смысле, как это употребляется в отношении испанской, немецкой, французской наций, и синонимом чего является согражданство. Поэтому многонациональность России следует понимать как полиэтничность. Россия как демократическая страна должна обеспечить всем этническим группам (национальностям) право на развитие культуры, языка, традиций, что возможно в рамках такого института, как национально-культурная автономия [Тишков 1997: 618]. В.А. Тишков считал, что удовлетворение этнических интересов через экстерриториальную национальнокультурную автономию не противоречит развитию общей лояльности к гражданской нации, а наоборот, укрепляет ее. Ученый позиционировал либеральнодемократический подход в понимании российской нации.
Р.Г. Абдулатипов придавал этносам в составе России бóльшую роль, настаивал на их субъектности в национально-государственном развитии России, называя их «этносы-нации». «Нация как этнос – это категория историческая, которая формируется как общность людей со своим самобытным видением мира, как специфическая система культуры, языка, со специфическими формами взаимодействия этой общности с природой, обществом и друг с другом» [Абдулатипов 1997: 565]. В его понимании можно говорить о нации-этносе и нации-государстве как двух самостоятельных феноменах, которые должны не взаимоисключать друг друга, а дополнять. По мнению Р.Г. Абдулатипова, учитывая исторические особенности России, необходимо интегрировать нацию-этнос в нацию-государство, в результате чего будет сформировано гражданское «общество-нация-государство» [Абдулатипов 2001: 21, 24].
В отличие от концепта гражданской нации, которая своим стержнем имеет гражданские права, равенство перед законом, в этнонациональной концепции акцент делался сначала на межэтнические отношения, а затем на общегражданские. Разница в понимании «нации» являлась не только предметом отвлеченного научного спора, она непосредственно проявлялась в политической борьбе в россий- ском политическом пространстве. Можно сказать, что позиция Р.Г. Абдулатипова отражала мнение региональных этноэлит, которые не собирались терять особый статус национальных субъектов федерации, а понятие нации-этноса являлось существенным идеологическим обоснованием данного статуса. По мнению академика В.А. Тишкова, любое утверждение нации-этноса в политическом дискурсе не было безобидным формулотворчеством, а могло привести к усилению этнонационализма на политической арене, что, в конечном итоге, угрожало целостности государства [Тишков 1997: 644].
Ситуация в начале 1990-х гг. в России действительно вызывала опасение усиления центробежных тенденций. Тем не менее дрейф в сторону идеологического формирования российской нации продолжался и становился все более явным. Считается, что первый нормативный шаг к реализации концепции нации в европейском понимании был сделан в Конституции РФ 1993 г., где вместо советского понятия «нации и народности» появляется понятие «российский многонациональный народ». И хотя это еще не было признанием гражданского понимания нации, такая формулировка в смысловом отношении ближе к понятию «российская нация».
В Концепции государственной национальной политики Российской Федерации от 15 июня 1996 г. 1 (далее – Концепция) сам термин «российская нация» еще не упоминался. Осталось традиционное понимание национального как в самом названии концепции – «национальная политика», так и в употреблении терминов: «национальные отношения», «межнациональные отношения», «национальные культуры народов РФ», «межнациональный мир и согласие». Авторы Концепции закладывали в документ основную цель – сохранение и укрепление единой российской государственности, а терминологические нюансы сохраняли определенный эклектизм концепций гражданской нации и этнонации.
Тем не менее в Концепции приобрели более четкие очертания новые аспекты национальной политики. Обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов России как главная цель государственной национальной политики напрямую связывалась с соблюдением прав и свобод человека. Целый раздел Концепции был посвящен такому направлению в национальной политике, как национально-культурная автономия, которая понималась как «экстерриториальное общественное формирование», «самоуправляемые общественные образования в местах компактного проживания национальных и этнических групп». Национально-культурная автономия как новый институт национальной политики также «размывала» прежний идеологический каркас, усиливая концепт гражданской нации. В политическом дискурсе все чаще использовались понятия «российский», «россияне» в отношении всех граждан России.
Однако дальнейшее формирование основ постсоветской национальной политики, предполагающее принятие законодательного акта, застопорилось. Проект федерального закона «Об основах государственной национальной политики Российской Федерации», несколько раз вносимый в Государственную думу (в 2003, в 2006 гг.), так и не превратился в закон, поскольку не был достигнут экспертный и общественный консенсус по основополагающим вопросам национальной политики. По мнению многих авторов, не позволял превратить в федеральный закон концепцию государственной национальной политики так называемый русский вопрос. В экспертном сообществе нелиберальной ориентации самоидентификация русского народа рассматривалась как важнейшая концептуальная задача. А. Мигранян по этому поводу писал: «“Русский вопрос” в России, открытый до революции, остается таким же открытым вопросом и в настоящее время… С этой опасностью нам придется жить до тех пор, пока не завершится процесс самоидентификации русского народа» [Мигранян 1995].
Изначально авторы Концепции не включили в итоговый текст документа положение о русском народе как государствообразующем. Более того, Р.Г. Абдулатипов так комментировал ситуацию: «Комитет по геополитике Государственной Думы [90-е гг.] предлагает снять термин “россияне” как оскорбительный и внедрить только “русские”, а вместо “российского народа” только “русский народ”, требует национального самоопределения русских во всей Российской Федерации и восстановить “русский порядок”» [Абдулатипов 1997: 569). В результате дискуссий в Концепции 1996 г. как компромисс появилось политкорректное утверждение: «благодаря объединяющей роли русского народа на территории России сохранились уникальное единство и многообразие, духовная общность и союз различных народов».
Американский исследователь П. Ратленд, проанализировав национальную политику России с 1990-х гг., пришел к выводу, что хотя В. Путин и привнес стабильность и порядок в политическую систему России, но ему «во многом не удалось создать ясный проект, который говорил бы о будущем русской национальной идентичности и о месте нерусских народов в нем» [Ратленд 2011: 187]. Действительно, вплоть до 2012 г. не было ясности, какую из существующих моделей нации и этнической политики выберет Россия: модель российской (русской) нации, гражданской нации, политику «плавильного котла», интеграции или мультикультурализма. По этому поводу многие исследователи терялись в предположениях, в целом считая, что государство запаздывает в выработке ориентиров этнонациональной политики [Паин 2006: 34]. В выработке политического дискурса российской нации в это время активно принимали участие либералы, этнорегионалы, русские государственники, русские националисты. По мнению Г. Зверевой, вплоть до 2008 г. верховная власть в России активно поддерживала теоретические поиски экспертов в области обоснования ведущей роли русских как государствообразующей нации в российском нациестроительстве [Зверева 2008]. В целом же обоснованным выглядит утверждение О.Ю. Малиновой, что «государственная политика идентичности постсоветского периода демонстрировала значительную меру неопределенности, пытаясь так или иначе удовлетворить ожиданиям сторонников разных подходов» [Малинова 2010б]. На протяжении последних 20 лет российская власть подвергалась критике со стороны самых разных общественных и политических сил за отсутствие ясных ориентиров в национальной политике.
По мнению Д.Ю. Алтуфьева, русский национализм, не видя поддержки своей идеологии у государства, встал в оппозицию государству. Сам исследователь видит выход в символическом повышении статуса русского народа через признание его государствообразующим: «Большую роль ‹…› сыграет признание де-юре русского народа государствообразующим и связанной с этим его ответственности за сохранение, состояние и развитие государства. Тогда власть обретет возможность говорить от имени русских, тогда как русские получат необходимый им каркас государственности и соответствующую поддержку» [Алтуфьев 2012: 11].
Однако последующие международные события заставили по-другому посмотреть на мнимые и реальные опасности национальной политики. В связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к Российской Федерации произошли кардинальные изменения в социальном самочувствии населения страны, и были во многом сняты фрустрационные настроения граждан как последствия шока после распада СССР. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, показывающие, что постоянно повышающаяся в последние годы кривая роста сторонников слогана: «Россия – для русских!» – с 2014 г. резко пошла на спад. Число россиян, поддерживающих утверждение, что «Россия – общий дом многих народов. Все народы России должны обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ», по данным ВЦИОМа в апреле 2014 г. увеличилось до 57% с 37% в сентябре 2013 г. 1 Поскольку же в самой национальной политике к весне 2014 г. не произошло никаких существенных изменений, можно констатировать, что для российского народа (80% которого составляют русские) на первый план вышла ценность «Россия как сильное государство, великая держава». Русские в очередной раз выступили как народ-государственник.
Между тем с 2012 г. некоторые нюансы концептуального обоснования национальной политики России все же имели место. Своей предвыборной статьей «Россия: национальный вопрос» В.В. Путин заявил о своем видении новой концепции национальной политики в России. Наравне с понятием «гражданская нация» и «многонациональное государство» применительно к России он использовал термины «уникальная цивилизация», «полиэтническая цивилизация». По словам В.В. Путина, «самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром». В его понимании Россия – это «историческое государство», «государство-цивилизация» 2 .
Уже 19 декабря 2012 г. была принята Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 3 (далее – Стратегия). В документе понятие «российская нация» широко используется наравне с терминами «российский народ», «многонациональный народ Российской Федерации», «народы России». Межнациональные отношения трактуются как межэтнические, многонациональность России – как полиэтничность. При этом русский народ в Стратегии – это «системообразующее ядро» Российского государства; благодаря русскому народу «сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов». В Стратегии говорится, что «современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код».
В своем выступлении на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г. президент также обратился к этой проблеме: «…фор-мирование именно гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения единства страны» 4 .
Таким образом, Россия в постсоветский период была поставлена перед необходимостью поиска коллективной идентичности, которая во внутренней и внешней политике понимается как нация. При наличии в России таких особенностей, как многонациональность (полиэтничность), тяготение к политическому централизму и одновременно наличие регионального этноцентризма, фрустрационные настрое- ния русского народа как народа-государственника, пережившего дважды в XX в. разрушение государственности, российская власть столкнулась с трудностями выработки общей идентичности и консенсуса по идейным основам государственности.
Между тем в концептуальных основах национальной политики России весь постсоветский период утверждается трактовка гражданской надэтнической нации. В этой трактовке в последние годы Россия предстает как уникальная полиэтническая цивилизация, скрепленная общими ценностями, общей исторической памятью, единым культурным (цивилизационным) кодом. Новая модель национальной политики выстраивается не только через идейные поиски, но и посредством обобщения опыта практики в этой сфере, поиска консенсусных идей. Именно потому, что до сих пор идут поиски приемлемых формулировок, анализируется и обобщается практика в этой сфере, российская модель национальной (этнической) политики складывается как сложная система сдержек и противовесов.
Список литературы Проблема концептуальных основ современной национальной политики России (к истории вопроса)
- Абдулатипов Р.Г. 1997. Нации на распутье: опасные заблуждения оракулов национализма. -Национальная политика России: история и современность. М.: Русский мир. С. 561-576
- Абдулатипов Р.Г. 2001. Теоретические вопросы развития наций и национальных отношений. -Основы национальных и федеративных отношений: учебник (под общ. ред. Р.Г. Абдулатипова). М.: Изд-во РАГС. С. 15-52
- Алтуфьев Д.Ю. 2012. Этносоциум России: пути разрядки. Продолжение. -Этносоциум и межнациональная культура. № 7. С. 7-12
- Гудков Л. 2005. Смещенная агрессия: отношение россиян к мигрантам. -Вестник общественного мнения. № 6(80). Ноябрь-декабрь. С. 60-77. Доступ: http://ecsocman.hse.ru/data/061/929/1219/08_60-77-Gudkov.pdf (проверено 10.05.2015)
- Зверева Г. 2008. Русский проект: конструирование позитивной национальной идентичности в современном российском государстве и обществе. -Eurasian reviews. Vol. 1, Nov. P. 15-46
- Малинова О.Ю. 2010а. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. -Полис. Политические исследования. № 2. С. 90-105
- Малинова О.Ю. 2010б. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. -Политэкс. Политическая экспертиза. № 1. Доступ: http://www.politex.info/content/view/662/30/(gроверено 12.05.2015)
- Мигранян А. 1995. «Русский вопрос» в России. -Моя газета. 15.11. № 44. Доступ: http://www.newlookmedia.ru/?p=15728 (проверено 10.05.2015)
- Национальная политика России: история и современность. 1997. М.: Русский мир. 678 с
- Паин Э.А. 2006. Этнополитические условия гражданской интеграции российского общества. -Общественные науки и современность. № 6. С. 23-37
- Перегудов С.П. 2013. «Русский вопрос» в контексте этнонациональных отношений в РФ. -Полис. Политические исследования. № 3. С. 74-86
- Ратленд П. 2011. Присутствие отсутствия: об этнической политике в России. -Полис. Политические исследования. № 2. С. 172-189
- Тишков В.А. 1997. Концептуальная эволюция национальной политики в России. -Национальная политика России: история и современность. М.: Русский мир. С. 597-646
- Указ Президента РФ от 15.06.96 N 909 «Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской Федерации». Доступ: http://www.referent.ru/1/59660 (проверено 10.05.2015).
- Волков Д.А. Интервью на пороховой бочке. -НГ-Сценарии. 26.11.13. Доступ: http://www.levada.ru/02-12-2013/intervyu-na-porokhovoi-bochke (проверено 10.05.2015).
- ВЦИОМ: Пресс-выпуск №2611. 24.06.2014. «Россия -общий дом для разных народов». Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114874 (проверено 10.05.2015)
- Путин В. Россия: национальный вопрос. «Самоопределение русского народа -это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром». -Независимая газета. 23.01.2012. Доступ: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (проверено 11.07.2014).
- Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Доступ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/(проверено 20.05.2015).
- Выступление В.В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/19243 (проверено 11.07.2014).