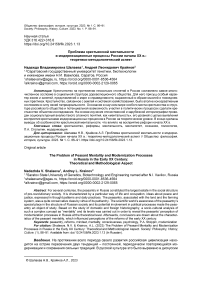Проблема крестьянской ментальности и модернизационные процессы России начала XX в.: теоретико-методологический аспект
Автор: Шалаева Н.В., Крайнов А.Л.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Крестьянство на протяжении нескольких столетий в России составляло самое многочисленное сословие в социальной структуре дореволюционного общества. Для него присущ особый характер жизни и занятий, представлений о мире и справедливости, выраженный в образе мыслей и повседневных практиках. Крестьянство, связанное с землей и системой хозяйствования, было вполне консервативным сословием в силу своей патриархальности. Осознание в научном мире особого места крестьянства в структуре российского общества и потенциальная возможность участия в политических процессах сделали крестьянство объектом исследования. На основе изучения отечественной и зарубежной историографии проведен социокультурный анализ такого сложного понятия, как «ментальность», его уровней с целью выявления восприятия крестьянами модернизационных процессов в России на теоретическом уровне. В конце сделаны выводы об особенностях крестьянской ментальности, что влияло на восприятие реформ начала XX в.
Крестьянство, реформы, ментальность, менталитет, сознание, психология, п.а. столыпин, модернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149142055
IDR: 149142055 | УДК: 316.422+316.6 | DOI: 10.24158/fik.2023.1.13
Текст научной статьи Проблема крестьянской ментальности и модернизационные процессы России начала XX в.: теоретико-методологический аспект
Надежда Владимировна Шалаева1, Андрей Леонидович Крайнов21 1,2Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, Саратов, Россия , ,
1,2Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov, Russia , ,
между западниками и славянофилами в середине XIX в. Другими словами, с одной стороны, Россия всегда стремилась встать в один ряд с европейскими государствами, с другой – укорененность и консервативность традиций, которые затрудняли модернизационные трансформации. Многие нововведения власти воспринимались со стороны общества как минимум негативно, как максимум – вызывали активное сопротивление. Причиной такого отношения со стороны общества служили ментальные установки, выраженные в настроениях и мнениях. Особенно ярко устойчивость традиций проявилась на ментальном уровне в крестьянском сознании.
Цель статьи – на основе социокультурного анализа выяснить основы русской ментальности на уровне мнений и настроений как полисемантического понятия глубинного мышления русского человека, в частности крестьянства, оказывающей влияние на исторические процессы.
Теоретико-методологической основой статьи является проблема ментальности и выделение ее различных уровней – сознания, настроений, мнений.
Ментальность как научная проблема в истории начала разрабатываться только во второй половине XX в. благодаря работам французских историков школы «Анналов» (Блок, 1986; Февр, 1990). Обращение к проблеме ментальности связано со стремлением изучения истории, социальных процессов с позиции человека, его психологии, а не руководствуясь только социальноэкономическими аспектами. В результате объективные процессы дополнялись субъективными переживаниями современников событий.
Для историков школы «Анналов» понятие «ментальность» связано с внутренним миром человека, его ценностными установками и убеждениями (Дюби, 1994; Бродель, 1997). Многие из представителей этого научного направления считали, что исторические события надо рассматривать с позиции человека того времени, его чувств, верований, моделей и стереотипов поведения, а не давать им оценку с позиции сегодняшнего дня (Ревель, 1993: 53).
Теоретические и методологические разработки школы «Анналов» способствовали развитию социокультурного поворота в изучении истории России, развитию социальной истории (Жидков, Соколов, 2001; Миронов, 1986), исторической психологии (Гуревич, 1988; Николаева, 2004; Поршнева, 2000), новой локальной истории (Репина, 1998; Козлов, 2020), общественному сознанию как одному из пластов ментальности1 (Шалаева, 2013; 2019).
Проблема ментальности тесно связна с понятиями «массы», «массовое сознание», «массовые настроения», «массовые мнения», которые все в большей степени рассматриваются как междисциплинарные, требующие привлечения знаний и методов исследования в смежных с историей гуманитарных науках – философии, культурологии, политологии, социологии. За последние двадцать лет появилось большое число научных работ, исследующих эти понятия, в которых авторы пытаются определить роль масс и массового сознания в кризисные периоды.
В социогуманитарном знании нет единого понимания и определения понятия «массы». Так, например, оно трактуется как толпа (Г. Лебон); «тело социума», благодаря которому происходит идентификация человека (Э. Канетти); «радикальная неопределенность» (Ж. Бодрияр). В русской марксистской традиции массы – синоним понятию «народ» (В. Ленин). Под понятием «массы» авторы понимают особую неструктурированную гетерогенную социальную общинность, обладающую психологическими характеристиками (стихийность, агрессивность, инстинктивность, внушаемость) и общностью переживаний.
Под общественным сознанием мы будем понимать комплекс идей, взглядов и чувств, в которых отражается бытие простого человека на разных уровнях – личностном, групповом и социальном. И в этом смысле общественное сознание есть отражение как личностного, так и коллективного начала в обществе, основой для которого является менталитет. Особенностью массового сознания является высокая степень эмоциональности, сочетание рационального и иррационального начал в психологии человека и социума, в его способности к рефлексии. Массовое сознание характеризуется сложным комплексом признаков – радикализмом, высокой степенью внушаемости, бытовым прагматизмом.
Массовое сознание отражается в настроениях и мнениях. Это реакция общества на властные мероприятия, которая может проявляться в разных формах и масштабах – от открытого неприятия и отрицания формируемого образа власти до стремления высказать свое мнение в более лояльной форме – письмах, прошениях, обращениях и другой корреспонденции, адресованной к власти (Марченя, 2010; Крайнов, 2016).
Сегодня в историографии нет единого определения менталитета из-за сложности его фиксации в сознании. Его особенность – психоэмоциональное состояние и переживание человека, выраженное часто спонтанно в поведенческих практиках, в источниках личного происхождения
(письмах, дневниках, воспоминаниях). Ментальные установки в обыденное время, в условиях благополучного развития общества слабо проявляются, тогда как в условиях кризиса историки фиксируют изменения как в поведенческих практиках, так и на эмоциональном уровне.
Основная часть . Крестьянство в течение многих столетий было одним из ключевых акторов российской истории, несло в себе глубинные смыслы народной мудрости и в той или иной степени оказывало воздействие на разные стороны социальной действительности. Осмысление крестьянской картины мира, отраженной в его ментальных установках, позволяет провести анализ судьбоносных для крестьянства реформ начала XX в., в том числе одной из сложных и противоречивых ее страниц – реформ А.П. Столыпина в начале XX в. Как писал Г. Федотов, крестьянство означало «всю Русь, оставшуюся чуждой европейской культуре. Это черная, темная, социально деградировавшая, но морально крепкая Русь, живущая в понятиях и быте XVIII века. …Не только народничество русское, но и все консервативные направления русской мысли сохраняют сознание, что в этой почве коренятся моральные устои России» (Федотов, 1992: 58).
В крестьянской культурной традиции сохранились в большом количестве архаические формы картины мира, уходящие корнями в дохристианскую старину, что нашло свое отражение в сознании и образе жизни русского крестьянина. По мнению многих исследователей (как историков, так и культурологов), своеобразие крестьянской ментальности во многом коренится во влиянии природно-климатического и географического факторов1. Короткое лето, капризы природы, непредсказуемость результатов труда – все это приучило русского человека к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, к своеобразному отношению к своему труду и к земле. Постоянная борьба с непогодой привела к тому, что крестьянин-земледелец еще на стадии становления общества стал воспринимать и ассоциировать образ собственной личности с семьей или деревенской общиной, являвшимися регуляторами его поведения. При этом с веками эта связь только усиливалась, и когда встал вопрос о самостоятельной жизни без общины вначале XX в., крестьянин оказался к этому морально не готов. «Российское сельское население жило в …более обособленном мире, чем селяне на Западе… Крестьянство …сохраняло верность культурным традициям Московской Руси» (Пайпс, 2005: 127).
Крестьянская ментальность носила дуалистический, т. е. двойственный, характер, что нашло отражение в понимании свободы. С одной стороны, русский крестьянин был тотально несвободен. Он был зависим от сил природы, которые часто были к нему враждебны (уничтожение урожая, угрозы собственной жизни). Крестьянин в силу своей неграмотности не мог понять силы природы, тем более на них влиять или как-то контролировать. С другой стороны, он был зависим от воли помещика. Последний мог сделать с крестьянином все, что заблагорассудится. Все вместе это рождало в сознании крестьянина мечту об абсолютной свободе. Но воля для крестьянина, по мнению В. Жидкова и К. Соколова, «означала полную необузданность, право на буйство, гулянку, поджог» (Жидков, Соколов, 2001: 383). Но в то же время воля – это и свободное распоряжение своей землей, т. е. делать на ней то, что он считает нужным: сеять, пахать без указа свыше; посадить, рассадить культуру в таком количестве, в каком ему необходимо и, наверно, перестать переходить с одного участка на другой. При этом картина воли рисовалась совершенно неприглядной с точки зрения западного образа жизни: воля как анархия, как цыганщина, как отказ подчиняться правилам. Подтверждение дуализма воли можно найти и у русских разночинцев ХIX в. (Русская идея…, 1994: 157).
В то же время природно-географический фактор сыграл определенную роль в формировании отношения к земле и результатам собственного труда у русского крестьянина. Неэффективность крестьянского земледельческого труда объяснялась его приверженностью к традиции как символу определенной устойчивости и стабильности, что нашло отражение в сознании и картине мира. Это приводило к тому, что любая модернизация, неважно на каком уровне (в рамках поместья или государства) она проводилась, воспринималась недоверчиво, как барская прихоть и причуда (Ахиезер, 1991: 268). Любое вмешательство помещиков в устоявшийся для крестьянина быт и повседневную сферу труда – использование новых агрикультур или техники – вызывало лишь недовольство. Намерения тут роли не играли: доброхота-помещика, желавшего за свой собственный счет улучшить крестьянскую долю, не выносили точно так же, как безжалостного эксплуататора. Так, например, в романе Л. Толстого «Анна Каренина» один из героев, стремясь внедрить в крестьянский труд и новую технику, и способы организации самого труда, встретился с полным неприятием и отторжением. «Жизнь русского крестьянина вращалась вокруг трех основных институтов: двора, деревни… и общины», где «преобладали личностные отношения над деловыми» (Пайпс, 2005: 128).
Объясняя сложность реализации агарной реформы П. Столыпина, Р. Пайпс рассматривает на ментальном уровне специфику жизни русской деревни (Пайпс, 2005: 128). Он выделяет три плоскости или установления, сознания, психологии и жизни русской деревни в начале XX в., говорит о специфике семьи, общины и сельского схода, где сохранялись патриархальные отношения. Но конкретная патриархальная семья существовала, пока был жив ее глава. После его смерти семья распадалась и образовывала новые несколько семей, так как выделялись в самостоятельные семьи сыновей, становившиеся главами новых патриархальных семей. При этом происходило дробление земли. Проблему русской деревни Р. Пайпс видит именно в малоземелье русской деревни, в отсутствии крупных крестьянских хозяйств, которые составляли опору власти в сельском хозяйстве на Западе (Пайпс, 2005: 128–137). По мнению Р. Пайпса, низкий уровень реализации реформы был связан с несколькими причинами. Исходя из общинного сознания крестьян и общинной практики возделывания земли (пусть и патриархальной семьей), для крестьянина сложно было самостоятельно, без поддержки общины, возделывать землю. Кроме того, условия рискованного земледелия изначально создавали условия совместной работы на земле, поэтому переход на единоличные хозяйства был для крестьян сомнительным мероприятием. При этом нельзя забывать, что в большинстве своем крестьянские хозяйства носили натуральный характер и были слабо ориентированы на рынок, тогда как аграрная реформа предполагала капитализацию деревни. Это так же создавало дополнительные трудности при реализации реформы, большая часть крестьян была не готова ни морально, ни экономически к вхождению в рынок. И еще одно обстоятельство затрудняло реализацию реформы: «Русскому крестьянину, живущему “во Святой Руси”, в замкнутом, маловосприимчивом к чужим культурам мире, среди родственных ему по вере и происхождению славянских народов, дикой и нелепой казалась жизнь среди “басурман”» (Пайпс, 2005: 142–143).
Традиционно в крестьянском сознании и картине мира была укоренена мысль о том, что вся земля принадлежит им – земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает, а целина – ничья. Эта убежденность была выражена в крестьянском праве на земли помещиков, что привело в 1861 г. к тому, что крестьяне восприняли раздел и частичную потерю земли (отрезки) как величайшую несправедливость и обман, вызвав к жизни крестьянские протесты. Крестьяне не согласились с тем, что большая часть земли осталась у дворян-помещиков, тогда как должна была принадлежать им. Эта психологическая особенность в известной степени объясняет известный парадокс: освобождение крестьян нанесло первый удар по монархическому чувству крестьянства. Оно же положило начало разложению тех духовных основ, на которых держалась вековечная мужицкая верность царю.
В ходе аграрных преобразований разрушение ментальности сопровождалось резким расслоением крестьянской массы. В руках одних концентрировались значительные средства, другие ее теряли, разорялись, и, хотя в целом шел процесс интенсификации сельскохозяйственного производства, общество становились богаче, но поляризацию деревни никак нельзя сбрасывать со счета. Выделение крестьян из общины привело к расколу некогда единого сельского мира. Так, например, по сведениям саратовских чиновников «обстановка в деревне… крайне обострена и натянута, между крестьянами…, укрепившими свои наделы в личную собственность, …с лицами, оставшимися в общине, …совершенно не желают выделять им землю и всеми неправдами застращают их, отчего землеустройство в …обществе имеет полный застой»1.
Вместе с тем постоянное падение эффективности сельского хозяйства еще больше обостряло извечную проблему дефицита земли, что создавало почву для ее передела. С целью разрядить социальное напряжение в деревне в начале XX в. государство провело политику переселения крестьян, предусмотренную аграрной реформой.
Сторонники сохранения помещичьего землевладения считали, что проблема малоземелья надумана, что надо не увеличивать крестьянские наделы, а модернизировать саму систему хозяйствования посредством внедрения новых сельскохозяйственных технологий. На практике все было далеко не так однозначно. Засухи, неурожаи и разорения в развитых черноземных землях с большим крестьянским землепользованием встречались так же часто, как и в малоземельных хозяйствах. Так, например, княгиня М.К. Тенишева, которая много времени проводила в своем поместье и помогала своим крестьянам, писала: «У смоленских крестьян земли довольно, но не умели обращаться ею. Скот, обработка земли – одно отчаяние. На благоустроенное имение смотрели как на господскую затею, к ним неприменимую. …У некоторых бывали прикупленные клочки земли, но на них они были не хозяевами: зависть соседей не позволяла мужику пользоваться ими. Посеет культуру, соседи напустят скотину, насадят яблонь –ребятишки все яблоки еще зелеными украдут»2.
Выводы . Крестьянская ментальность, выраженная в картине мира, повседневных практиках, общественном сознании и настроениях складывалась на протяжении столетий вод влиянием крепостничества как фактора давления. В сознании крестьянства формировался дуалистический взгляд на мир. С одной стороны, желание свободы и чувство глубокой несправедливости по вопросу распределения земли, с другой – некоторое раболепство, выработанное на протяжении нескольких столетий в отношении с другими социальными слоями. Крепостничество способствовало сохранению в социальной памяти крестьянства чувства несправедливости миропорядка, недоверия и настороженности к любым модернизационным процессам.
Таким образом, проблема крестьянской ментальности, являясь одной из центральных для понимания специфики внедрения и развития модернизации русской деревни начала XX в., помогает выявить особенности становления сознания и психологии русского крестьянина, определить специфику жизни крестьянского двора, что сказалось на существовании деревни в ходе реформ начала XX в.
Список литературы Проблема крестьянской ментальности и модернизационные процессы России начала XX в.: теоретико-методологический аспект
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического общества. В 3 т. М., 1991. Т. 1. 590 с.
- Блок М. Апология истории или ремесло историка / пер. с фр. Е.М. Лысенко. М., 1986. 254 с.
- Бродель Ф. Что такое Франция? / пер. с фр. В. Мильчиной, С. Зенкина. М., 1997.
- Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988. № 1. С. 56-70.
- Дюби Ж. Европа в средние века / пер. с фр. В. Колесникова. Смоленск, 1994. 316 с.
- Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть. СПб., 2001. 633 с.
- Козлов С.А. «Служение интересам всей страны»: Московское общество сельского хозяйства (1820-1930 гг.). В 3 т. М., 2020. Т. II. 272 с.
- Крайнов А.Л. Проблема массового сознания общества на сломе эпох (теоретический аспект) // Актуальные проблемы современного гуманитарного знания. Актобе - Саратов, 2016. С. 57-62.
- Марченя П.П. Современные подходы к изучению масс и современные подходы к изучению масс и массового сознания в истории: тенденции и результаты // Современные исследования социальных проблем. 2010. № 3. С. 86-90.
- Миронов Б.Н. Историческая психология и историческое знание // Общественные науки. 1986. № 1. С. 130-143.
- Николаева И.Ю. Ментальность гендерного казуса в свете теории модернизации // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой, Л.П. Репиной. М., 2004. С. 104-118.
- Пайпс Р. Русская революция. В 3-х т. Т. 1. Агония старого режима. М., 2005. 478 с.
- Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период первой мировой войны (1914 - март 1918 гг.). Екатеринбург, 2000. 414 с.
- Ревель Ж. История ментальностей: опыт обзора // Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов» / отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М., 1993. С. 51-58.
- Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. 320 с.
- Русская идея: в кругу писателей и мыслителей Русского зарубежья / редкол.: пред. А.Я. Зись. М., 1994. 538 с.
- Шалаева Н.В. Советская праздничная культура и ее отражение в крестьянском сознании. 1917-1920-е гг. // Государственная власть и крестьянство в XIX - начале XXI века: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. Коломна, 2013. С. 312-315.
- Шалаева Н.В. Трансформация ценностного мира человека в период революционных процессов в России (1917 г.) // Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Е.Б. Дудниковой. Саратов, 2019. С. 395-399.
- Февр Л. Бои за историю /пер. с фр. А.А. Бобовича. М., 1990. 629 с.
- Федотов Г.П. Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: в 2 т. Т. 2. СПб., 1992.