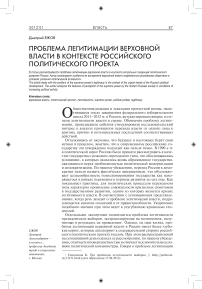Проблема легитимации верховной власти в контексте российского политического проекта
Автор: Ежов Дмитрий Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема легитимации верховной власти в контексте актуальных тенденций политического развития России. Автор анализирует особенности восприятия верховной власти современным российским обществом в условиях усиления политической активности.
Верховная власть, политический протест, легитимность
Короткий адрес: https://sciup.org/170166613
IDR: 170166613
Текст научной статьи Проблема легитимации верховной власти в контексте российского политического проекта
О бщественная реакция и эскалация протестной волны, наметившиеся после завершения федерального избирательного цикла 2011–2012 гг. в России, актуализировали вопрос о степени легитимности власти в стране. Обозначив проблему легитимации, проиcшедшие события стимулировали исследовательский интерес к анализу принципов перехода власти от одного лица к другому, причин и потенциальных последствий соответствующих действий.
Отталкиваясь от аксиомы, что будущее и настоящее берут свои истоки в прошлом, заметим, что к современному российскому государству это утверждение подходит как нельзя точно. В 1990-е гг. в политической науке Россию было принято рассматривать в качестве государства с режимом переходного типа, что обосновывалось условиями, в которых оказалось вновь образованное государство, оказавшееся перед необходимостью политической модернизации и демократизации. По нашему убеждению, переход России к демократии нельзя назвать фактически завершенным, что обусловливает целесообразность позиционирования государства как находящегося в рамках переходного периода развития до сих пор. Как показывает практика, для политических процессов переходного типа характерно проявление совокупности кризисных симптомов в государственном развитии, одним из которых является кризис легитимности власти. В соответствии с устоявшимися представлениями, когда речь заходит о проблеме легитимации власти, подразумевается наличие сомнений в ее правоспособности. Укоренение подобного мнения при этом ведет к усугублению кризисных тенденций.
ЕЖОВ
Дмитрий
Александрович – к.полит.н., профессор Академии труда и социа льных отношений, г. Москва
Отдельными экспертами поднимается проблема легитимности президентских выборов, экстраполируемая на полномочия, полученные в результате их проведения1. Однако, на наш взгляд, проблема легитимации верховной власти в России имеет более глубокие корни, которые апеллируют к содержательной стороне российского политического проекта в целом. При этом распространенный на сегодняшний день подход к ее рассмотрению, по нашему убеждению, отличается поверхностностью и отвечает исключительно условиям политической конъюнктуры. Говоря о проблеме легитимации власти с точки зрения проекта политического развития России, отметим, что она тесно связана с проблемой преемственности власти. Последняя наиболее рельефно актуализировалась в 2008 г., когда объективно существовавшая относительно стабильная социально-политическая и экономическая обстановка в стране способствовала воплощению инерцион -ного сценария, в силу причин, имевших законодательный характер, материализовавшегося в победе на президентских выборах 2008 г. «преемника» В.В. Путина – Д.А. Медведева. Таким образом, верховная власть была сохранена в руках одной команды политических единомышленников, что стало отражением актуального на тот момент социального запроса. В то же время уже на этапе решения «проблемы-2008» проявилась неопределенность в отношении преемственности власти в будущем, поскольку за годы функционирования действующей системы в ее рамках так и не было создано механизмов воспроизводства элиты. Причина этого во многом заключается в позиционировании действующего с 2000 г. политического режима. Подобного рода режимы, как показывает история, функционируют до тех пор, пока сложившаяся в их рамках управленческая модель и ассоциируемая с ней центральная фигура, действующая на политической арене, имеют ресурс общественной поддержки. Как только соответствующий ресурс вырабатывается, усиливается тренд к падению уровня поддержки власти со стороны населения, росту протестных настроений и в конечном счете происходит фактическая делегитимация власти. Такой результат представляется вполне закономерным при условии, когда в государстве отвергается или сводится к формальной процедуре принцип сменяемости власти, а у властвующей элиты отсутствуют эффективные рычаги и действенные источники для обновления верхних слоев правящего класса в персональном отношении. При этом делегитимация власти может приводить к непредсказуемым последствиям, практические вариации которых в последнее время продемонстрированы в виде политических изменений, происшедших в отдельных государствах Ближнего Востока.
Началом процесса делегитимации действующей верховной власти можно считать события, происшедшие на XII съезде
Всероссийской политической партии «Единая Россия», прошедшем в Москве в сентябре 2011 г., где фактически была осуществлена процедура передачи президентских полномочий, подтвердившая собой эфемерность избирательных процедур. Казалось бы, ничего сверхъестественного не случилось, и примененная технология во многом соответствует сложившемуся в российском массовом сознании стереотипу получения верховной власти. Дело в том, что, обратившись практически к любому периоду в истории России, мы можем стать свидетелями общей тенденции, характеризующей восприятие образа носителя верховной власти населением. Она выражена в распространении элементов патернализма в массовом сознании, обусловливающих стремление придать главе государства (вне зависимости от того, кем он является – президентом, Генеральным секретарем ЦК партии или императором) условный статус «вождя» («отца нации»). В этом заключена личностная основа верховной власти в российском государстве в негласной, но очевидной трактовке населения.
Объясняется такое положение дел двумя факторами, один из которых базируется на институциональных истоках, а второй – на социальных. Поднимая вопрос об институциональных истоках преемственности верховной власти, заметим, что механизмы передачи власти по наследству в царской России и формирования высшей части советской номенклатуры (включая первое лицо государства) функционировали без непосредственного участия населения. Другими словами, существовавшие институты фактически не предполагали принципа выборности. Институт президентства, влекущий за собой введение прямых и всеобщих выборов главы государства, появился лишь в 1991 г. Учитывая исторический опыт России, вряд ли стоит лишний раз акцентировать внимание на факте, что резкая демократизация страны, ставка на которую была сделана в период внедрения соответствующих норм по образцу западных стран, в целом стала проводиться на не подготовленной для этого почве. Это нашло отражение и в многолетней истории функционирования института выборов на различных уровнях в новой России, что избиратели нередко подтверждали своими действиями. В большей или меньшей степени на выбо- рах местного и регионального уровней распространялись случаи низкой явки, вызванные во многом апатией к избирательному процессу. Все это, конечно, не переносилось в полном объеме на выборы федерального уровня, имевшие и имеющие до сих пор более значительный масштаб и последствия. Но в целом данная тенденция в совокупности с весьма условным уровнем объективности избирательных механизмов, утвердившимся в сознании населения, привела если не к дискредитации самой идеи выборности, то к превращению процедуры выбора в периодически требующую технического выполнения повинность.
Второй фактор, базирующийся на социальных истоках, связан с уже упомянутым ранее отношением к власти в духе патернализма и характерным пассивным стилем политического поведения. Годы стабилизации, пришедшиеся на время президентства В. Путина в период с 2000 по 2008 г., во многом обязаны благоприятной для России экономической конъюнктуре. Экономический аспект зачастую является превалирующим в определении отношения к власти со стороны населения, пусть он и не всегда зависит прямым образом от ее непосредственных носителей, а продиктован общемировыми тенденциями. Этот фактор формирует закрепляющийся в массовом сознании стереотип – ничего не менять.
В то же время базирующаяся на означенных выше факторах инерционная стратегия, относительно успешно реализовавшаяся в 2008 г., оказалась фактически провальной на этапе 2011–2012 гг. Хотя преемственность власти была обеспечена в виде возвращения на высший государственный пост фигуры, позиционирующейся в качестве общенационального лидера, результат ее воплощения не привел к обеспечению в массовом сознании установки на безусловную легити- мацию власти. Причиной этому стала совокупность объективных и субъективных обстоятельств. В качестве объективных обстоятельств мы склонны рассматривать кардинальную трансформацию общественно-политической ситуации в России, вызвавшую активизацию протестной активности граждан, а субъективных – стиль фактической передачи президентских полномочий, апробированный в рамках XII съезда «Единой России». По большому счету, указанные обстоятельства являются взаимозависимыми, т.к. стиль фактической передачи полномочий стал непосредственным катализатором активизации протестной активности. Недостаточные степень внимания к их учету и анализ последствий принимаемого политического решения привели к ярко выраженной дифференциации российского общества по политическому признаку и падению уровня поддержки власти в широких массах. Иллюстрацией к последнему тезису является тренд, выраженный в устойчивом падении рейтинга доверия со стороны населения к верховной власти, что было отражено в результатах социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в июне 2012 г.1 Общим итогом происшедших изменений стала смена приоритетов в рамках проекта политического развития России, подразумевающая поглощение инерционности непредсказуемостью и способствующая генезису кардинальных трансформаций, стимулирующих новое историческое действие.
На сегодняшний день, несмотря на актуализацию проблемы легитимации, сопровождающей функционирование института верховной власти в России, констатация всеобщего кризиса легитимности вряд ли имеет основания.