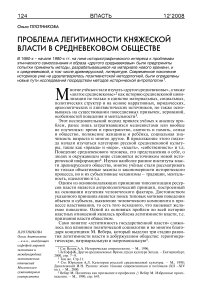Проблема легитимности княжеской власти в средневековом обществе
Автор: Плотникова Ольга Анатольевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2008 года.
Бесплатный доступ
6 1980-х - начале 1990-х гг. на пике историографического интереса к проблемам этнического самосознания и образа «другого средневековья» были предприняты попытки применить методы, разрабатывавшиеся на материале нового времени, и к средневековой, в том числе древнерусской, литературе. Современное поколение историков уже не удовлетворялось позитивистской методологией, были определены новые пути исследований посредством методов исторической антропологии1.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169202
IDR: 170169202
Текст научной статьи Проблема легитимности княжеской власти в средневековом обществе
М ногие учёные стали изучать «другое средневековье», а также «долгое средневековье»2 как историю средневековой цивилизации не только в единстве материальных, социальных, политических структур и на основе нарративных, юридических, археологических и лингвистических источников, но также основываясь на существовании повседневных привычек, верований, особенностей поведения и ментальности3.
Этот исследовательский подход привлек учёных к анализу проблем, ранее лишь затрагивавшихся медиевистами или вообще не изученных: время и пространство, святость и память, семья и общество, положение женщины и ребёнка, социальная значимость возраста и многое другое. В продолжение этого подхода начали изучаться категории русской средневековой культуры, такие как «правда» и «вера», «власть», «собственность» и т.д. Поведение средневекового человека, его представления о себе, о людях и окружающем мире становятся источником новой исторической информации4. Изучая наиболее ранние институты власти древнерусского общества, многие учёные стали рассматривать не только объективные законы и закономерности исторического процесса, но и их субъективные механизмы – традиции, ментальность, идеологию и т.д.
Одним из основополагающих принципов типологизации ресурсов власти является антропологический принцип, построенный на основании изучения человеческого фактора. Достоинством указанного принципа является поиск типовых мотивов поведения объекта и субъекта, выявление человеческого компонента в процессе властвования, то есть того исходного, что вызывает желаемое поведение. Одной из основных проблем во всей истории властных отношений являлась проблема легитимности власти, т.е. признания власти обществом.
ПЛОТНИКОВА Ольга Анатольевна – к.и.н., заведующая кафедрой миро вой экономики и международных экономических отношений Московского гуманитарного университета
Само понятие «легитимность государственной власти» сложилось под влиянием политической социологии и во многом благодаря концепциям М. Вебера, который выделял три стадии развития легитимности власти в добуржуазном обществе: геронтокра-тическую, патриархальную и патримональную5.
Важно подчеркнуть, что легитимная власть основана на признании права носителей власти предписывать нормы поведения другим индивидам. Но легитимность вовсе не означает, что абсолютно все граждане принимают данную власть. Легитимность не означает также поддержки всеми проводимого политического курса. В обществе всегда есть оппозиция существующей власти. Легитимность означает, что принимаемые законы и указы выполняются основной частью общества. Легитимность – это ещё и социокультурная характеристика власти, в связи с чем её невозможно полностью формализировать. Типологизация легитимности производится по типам культур. Особенность легитимности состоит в том, что она является результатом эволюции общества. Поэтому однозначную оценку легитимности можно дать только в обществе с устойчивыми нормами поведения. В обществе, переживающем модернизацию, измерение и оценка легитимности могут быть результатом довольно сложных процедур исследования и многосторонних наблюдений.
Ещё одним вопросом для исследования властных отношений является выяснение того, что можно считать первичным критерием легитимности.
Сегодня преобладает точка зрения, что основой легитимности является убеждение в правомерности данного строя. Заключение о наличии убеждения можно сделать, прежде всего, на основе свободного выражения гражданами своей воли. Устойчивость системы в конкретной стране также может рассматриваться как признак легитимности власти.
Исторически первым типом легитимности власти была власть, основанная на праве наследования престола. Такая легитимность соответствовала нормам традиционного общества.
В традиционном обществе М. Вебер выделяет два типа легитимности: патриархальная, основанная на прямых, односторонних связях, являющихся основой патернализма, и сословная, базирующаяся на относительной автономности и безусловном подчинении кодексу чести (присяга, слово, обычай, т.д.). В свою очередь, в политологии выделяются три уровня легитимности власти: идеологический, структурный, персоналистский.
Однако учёными так и не найдено определение, полно и достоверно характеризующее понятие «легитимность». Многие исследователи утверждают, что в рамках классических цивилизаций между законностью и легитимностью не было существенного различия: законная власть являлась легитимной1. Другие предполагают выделение особых типов легитимности и, соответственно, особых форм легитимации власти для разных этапов истории государства, начиная с самых древних времен. Также существует мнение о том, что в средневековых государствах легитимность королевской власти не могла базироваться лишь на династических правилах или титуле, она должна была постоянно подтверждаться эффективным исполнением функций управления и суда2.
По мнению К.А. Соловьёва, предметом исторической науки может быть не столько тип легитимности, сколько те формы, которые используются для легитимации власти на том или ином этапе исторического развития, с чем полностью можно согласиться. Одним из способов передачи власти, на наш взгляд, может быть десигнация власти.
М.Ю. Брайчевский указывал на то, что всю совокупность черт легитимной власти в обществе можно было бы обозначить как «потестарный образ власти», в котором отчетливо выделяются две части. Первая часть – это способ обретения власти. Вторая часть «потестарного образа власти» – необходимость в легитимации тех решений, которые принимает власть в процессе государственного управления, или способ легитимного действия, признаваемого народом не только как действие законное, но и действие правильное3.
Традиционность властных отношений, столь важная для устойчивости государственной власти и в наше время, в гораздо большей степени была важна в период становления государственности, когда обычай еще занимал то место, которое в дальнейшем будет принадлежать закону. Соответственно, все действующие и все появляющиеся формы проявления доверия населения власти должны вписываться в некий набор принципов, который К.А. Соловьёв обозначил термином «ядро легитимности». Сформировавшиеся в догосударствен-ный период в восточнославянских общинах, эти принципы задавали своего рода «сетку координат», в которую должна была вписываться власть в проходившем период становления Древнерусском государстве IX–X вв.1
Формирование этих основных принципов или «ядра легитимности» приходится на VI–VIII вв., т.е. на догосударственный период, где в качестве формы предшествующей легитимности выступает авторитет старших мужчин, который в период разложения эгалитарного общества проходит стадию институализации. Именно в это время возникают статусные отличия членов общины2. Одновременно появляются обряды и речевые формулы, оформляющие первичные отношения «авторитета» (протовласти) и населения. В стратифицированном обществе VII–VIII вв. закрепляется ярко выраженный статус вождей и старейшин, складывается так называемый патронат – система управления, базирующаяся на контроле вождя над определенной территорией в обмен на часть прибавочного продукта. Такого рода контроль отмечен в самых ранних описаниях власти у восточных славян.
Так, уже сведения Ибн-Русте содержат описание вождя славянского протогосударства, его обязанностей и прав. Из этого описания можно реконструировать формы протолегитимности одного из племенных объединений восточных славян. Основными её элементами были: определенный обряд возведения на престол («глава их коронуется»); местопребывание («в середине страны славян»); титул (они называют его «свиет-малик» – глава глав); особенности внешнего вида и поведения («царь этот имеет верховых лошадей и не имеет иной пищи, кроме кобыльего молока. Есть у него прекрас- ные, прочные и драгоценные кольчу-ги»)3.
Внешнеэкономическая опасность, а также необходимость расширения торговых отношений подталкивали общины к самоорганизации и выбору таких форм управления, при которых местные интересы общины были бы максимально защищены и не устраняли возможность широких контактов с торговыми партнерами по формирующемуся пути «из варяг в греки». Однако равноправие князей отдельных славянских племен становилось препятствием на пути развития внешнеэкономических связей, так как постоянные внутренние распри ослабляли позиции славянских племен. Можно заключить, что равная легитимность племенных «светлых князей» явно препятствовала осознанию общих интересов.
Таким образом, если говорить о легитимности государственной власти, становится очевидным, что она могла возникнуть только при объединении разрозненных племенных общин под властью одного князя, что, в свою очередь, естественно, должно было бы привести к устранению двойной дани, прекращению внутренней борьбы, усилению безопасности внешних границ и развитию торговли.
Х. Ловмянский утверждал, что в славянских землях государство возникло как дружинное со значительным участием в управлении свободных граждан и практическим отсутствием бюрократических структур. Этому, по мнению исследователя, способствовало то, что властные отношения на этапах протогосударства разделяли старейшины и представители дружины (князь). Те же властные начала были свойственны и ближайшим соседям восточных славян – балтам4.
Достаточно интересную информацию по вопросу легитимности власти находим в летописи, а именно в «Сказании о призвание варягов». Несмотря на то что Сказание имеет характер легенды, в нем запечатлён основной мотив легитимности власти, который имел право на существование в средневековом сознании, – признание власти всей землей, и, в первую очередь, признание законности и справедливости власти – «поищем себе князя, чтобы владел нами и судил по праву».
Необходимо отметить, что подобным же образом легитимность власти подтверждается и у некоторых других народов, в частности у тех же скандинавов.
Как известно, в летописи также есть упоминание о том, что варяги находились «за морем». Можно предположить, что и сага о Хрольве Пешеходе и «Повесть временных лет» описывают одни и те же события, причём в данном случае для нас неважно, реальные ли это события или вымышленные – в любом случае они дают некоторую информацию по проблеме легитимности. Отдельные учёные усматривают в призвании варягов, описанном летописцем, договор.
На наш взгляд, эта точка зрения ошибочна. Во-первых, ни о каком договоре вообще не упоминается в «Повести временных лет», во-вторых, в самом тексте летописи, где расположена информация о призвании, нельзя найти даже намёка на то, что стороны договаривались, так как любой договор предусматривает условия, которые обязательно должны быть оговорены, чего не находим в «Призвании».
В летописи звучит несколько иной мотив, который можно прокомментировать так: после того как славяне, утомленные распрями, решили: «поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву», они сразу направились «за море к варягам к Руси», где поиски, и не начавшись, увенчались успехом – избрали братьев, которые, приехав на Русь, и заняли основные города.
Из этого небольшого фрагмента очевидно, во-первых, что поиски заведомо были безальтернативны, так как нигде, кроме как среди варягов-Руси, они и не велись; во-вторых, варяги сразу и без сомнений согласились на княжение, как будто давно этого ждали; и в-третьих, вновь избранным князьям не было предъявлено никаких условий, как править, как владеть, как наводить порядок и т.д. Таким образом, можно предположить, даже при учёте легендарности текста, что славяне и варяги-Русь давно и хорошо знали друг друга, возможно, их сближали общие традиции и законы, именно этим можно обосновать такой конкретный выбор и отсутствие условий.
Таким образом, князь в государственный период стал важнейшей частью механизма управления не только потому, что у него была воинская сила, сколько потому, что он был первым «отчуждённым» общественным институтом. Князь из династии Рюриковичей не был укоренён в общине ни в IX–X вв., когда он был иноплеменником, ни в XI–XII вв, когда князья «кочевали по столам»1.
Если приглашение Рюрика еще можно рассматривать как легендарный эпизод, то уже княжение Олега доказывает утверждение власти – легитимизацию. Так, в 970 г. Святослав сажает своих сыновей – Ярополка и Олега, соответственно, в Киеве и земле древлян, и этот факт не встречает никакого сопротивления «земли». Мало того, новгородцы отправляют послов к Святославу с требованием и им дать князя, угрожая, что в ином случае они сами себе князя найдут, – всё это красноречиво свидетельствует о том, что власть Рюриковичей к этому времени была уже признана «землей», т.е. первый этап своей легитимизации новая княжес кая власть з авершила.