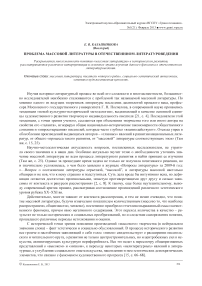Проблема массовой литературы в отечественном литературоведении
Автор: Калашникова Евгения Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Раскрывается многозначность понятия «массовая литература» в историческом развитии, рассматриваются различные интерпретации данного феномена и основные этапы изучения в отечественном литературоведении.
Массовая литература, писатели "второго ряда", социально-эстетический антагонизм, эстетико-художественная ценность
Короткий адрес: https://sciup.org/14821852
IDR: 14821852
Текст научной статьи Проблема массовой литературы в отечественном литературоведении
Изучая историко-литературный процесс во всей его сложности и многоаспектности, большинство исследователей неизбежно сталкиваются с проблемой так называемой массовой литературы. По мнению одного из ведущих теоретиков литературы последних десятилетий прошлого века, профессора Московского государственного университета Г. Н. Поспелова, в современной науке проявились тенденции «новой культурно-исторической методологии», выдвигающей в качестве основной единицы художественного развития творческую индивидуальность писателя [21, с. 4]. Последователи этой тенденции, с точки зрения ученого, ссылаются при объяснении творчества того или иного автора на свойства его «таланта», игнорируя общие национально-исторические закономерности общественного сознания и «миросозерцания» писателей, которые часто глубоко «взаимодействуют». Отсюда упрек в обособлении произведений выдающихся авторов – «главных» явлений в развитии национальных литератур, от общего «процесса такого развития, от “массовой” литературы соответствующих эпох» (Там же, с. 15, 25).
Научно-методологическая актуальность вопросов, поставленных исследователем, не утратила своего значения и в наши дни. Особенно актуально звучит тезис о необходимости уточнить значение массовой литературы во всем процессе литературного развития и найти принцип ее изучения (Там же, с. 25). Однако за прошедшее время задача не только не получила позитивного решения, но и значительно усложнилась, о чем было заявлено в журнале «Вопросы литературы» за 2009-й год: «…Вопрос о соотношении литературы серьезной, “высокой”, и литературы массовой настолько обширен и не нов, что к нему страшно и подступиться. Суть дела вроде бы интуитивно ясна, но дефиниции остаются достаточно произвольными, зачастую противоречащими друг другу и сильно зависимы от контекста и ракурсов рассмотрения» [2, с. 8]. К такому, еще более неутешительному, выводу современный критик пришел, рассматривая соотношение произведений различного эстетического уровня рубежа ХХ–ХХI вв.
Действительно, многое зависит от контекста рассмотрения, и тем не менее очевидно, что понятие массовой литературы, будучи изначально показателем количественным (массово то, что наиболее распространено, общеизвестно, читаемо), постепенно приобрело отчетливо выраженный смысл качественного феномена, причем явно негативного содержания. Этот переход количества в качество – результат не только исторических и социальных преобразований, но и следствие саморазвития понятия, прошедшего различные периоды истолкования и оценки.
С исторической точки зрения появление произведений «массового» творчества (в нейтральном значении слова) – факт эстетически и социально обусловленный. В процессе исторического развития все громче и настойчивее заявляющий о себе голос «низов» свидетельствует о расширении писательского и читательского круга, о развитии не только центростремительных, но и центробежных сил в искусстве, активизирующих культурную периферийность. Все это ведет к пересмотру общепризнанных представлений о «высоком» и «низком», к переходу некоторых «нелитературных» явлений в литературные, к углублению социального опыта искусства, накоплению в нем эстетических демократических элементов, что связано с феноменом художественного прогресса [15, с. 66–68].
Обычно историки литературы выделяли три «порыва» к массовости в культуре русского Средневековья и XVIII в. Первый «порыв» приходился на XV в. и был связан с заменой пергамена бумагой как более дешевым и доступным письменным материалом. Второй этап относился к середине XVII в., когда оформлялась так называемая литература «посада». Она «и пишется демократическими писателями, и читается демократическими читателями, и посвящена она темам, близким демократической среде» [11, с. 358]. И, наконец, третий «порыв» к массовости произошел в XVIII в., когда, с одной стороны, литература практически в обязательном порядке попадала на печатный станок, в силу чего увеличивалась степень ее доступности, а с другой – углублялся процесс демократизации творчества за счет расширения читательской аудитории.
Процесс дифференциации художественных ценностей поступателен. В. П. Адрианова-Перетц утверждает, что в начале XVIII в. «в прозе еще не создалось резкой грани между литературой в строгом смысле этого слова и фольклором. Повествовательные жанры в это время еще занимали промежуточное положение; только в 1760-е годы появилась уже русская собственно литературная проза, беллетристика» [1, с. 17].
Нельзя не учитывать и того, что расслоение эстетических вкусов в этот период было непосредственно вызвано сужением сферы воздействия устного народного творчества, его дискредитацией как культурного фактора, вытеснением из жизни городских жителей. Это (начиная с В. А. Жуковского) обращение писателя к народной традиции стало восприниматься как факт однозначно положительный, который, «следовательно, может выступать в качестве одного из критериев художественности» [10, с. 5]. Однако в целом, как утверждал Д. Н. Медриш, соотношение литературы и фольклора как «соотношение двух составных частей одной метасистемы» проявляет себя в различные эпохи по-разному [19, с. 11]. Так, «в результате вакуума, созданного отступлением фольклора, появляются в XVIII веке новые жанры <…> Рыцарский роман в известной мере приходит на место былины и сказки» [14, с. 68]. Тем не менее именно поэтому он несет в себе черты фольклоризма, как и массовая литература XVII – первой половины XVIII в. в целом. И только позже произведения, предназначенные для «всех», стали постепенно утрачивать генетические связи с фольклором, не теряя, впрочем, точек соприкосновения с ним.
Новый читатель из городских низов и служилого люда требовал чтения, доступного его пониманию и соответствующего его социальному опыту. Однако дело не только в недостаточной образованности основной читательской аудитории. В XVIII в. социальные параметры массовой литературы как низовой объединились с ее эстетической оппозиционностью по отношению к высокой «дворянской» культуре классицизма. Эта оппозиционность особенно остро проявилась во второй половине столетия в связи с появлением литераторов из разночинской среды. Массовое искусство как бы получило суверенитет для демократического крыла писателей и достигло определенных высот в разнообразии форм и средств воспроизведения действительности, особенно в прозе. Именно прозаические жанры своей доступностью противопоставлялись элитарной поэзии классицизма.
Показательна и так называемая «отверженная» (апокрифическая) литература. Она мыслится максимально свободной от узаконенных норм и условностей, несет в себе пафос игры природных сил, нравственно-социальной раскованности, олицетворяет «буйство» человеческой натуры. Такова, например, поэзия Ивана Баркова [18, с. 136–148].
Был и еще один пласт литературной продукции, рассчитанный на выходцев из социальных низов. Это различные «смехотворные» сочинения: «Забавные магазейны», предлагающие описание замысловатых выдумок, «смешных предприятий», «Разные письменные материалы, собранные для удовольствия любопытных читателей Матвеем Комаровым» (1791), «Анекдоты древних пошехонцев» Василия Березайского (1798) и др. [9, с. 126–137].
Постепенно социально-эстетический антагонизм между «высоким» и «низким» в искусстве начал сглаживаться, причем особая роль в этом процессе принадлежит Н. М. Карамзину. Именно он писал о значении третьесословной беллетристики и, объясняя ее популярность, пытался вникнуть в психологию «среднего» читателя: «…Не всякий может философствовать или ставить себя на месте героев истории; но всякий любит, любил или хотел любить, и находит в романтическом герое самого себя» [12, с. 99]. Кроме того, процесс чтения все более индивидуализируется, становится интимным сокровенным переживанием, и в этом такая же заслуга демократической беллетристики, устремленной к сердцу и разуму обычного человека.
В дальнейшем положение несколько изменилось как в негативную, так и в позитивную стороны. Уже в 1830-е гг. В. Г. Белинский писал, ориентируясь на Н. М. Карамзина и в то же время косвенно полемизируя с ним: «…Какие книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и повести. Какие книги доставляют литераторам и домы и деревни? Романы и повести. Какие книги пишут все наши литераторы, призванные и непризванные, начиная от самой высокой литературной аристократии до неугомонных рыцарей толкуна и смоленского рынка? Романы и повести» [3, т. I, с. 261]. В словах критика немало горечи и иронии. И это понятно, т.к. к этому времени в содержании термина «массовая литература» верх одержал количественный признак как показатель среднего уровня художественного качества. Общими усилиями литераторов-непрофессионалов или полупрофессионалов литература вошла в сферу рыночных отношений.
Более того, в 1830-е гг. обострился антагонизм между «литераторами-аристократами», как в «желтой прессе» («Северная пчела» Ф. В. Булгарина) называли А. С. Пушкина и его окружение, и авторами «из народа» (И. Гурьянов, А. Орлов и др.). Именно в этот период низкопробная массовая литература активно стремилась поменяться местами с высокой, занять место социального верха.
Данная тенденция была связана и с широко обсуждаемой в то время проблемой народности искусства. Как известно, самое понятие «народность литературы», зародившееся в русле романтизма В. А. Жуковского и под влиянием немецких романтиков, было введено П. А. Вяземским и О. М. Сомовым. Однако суть его долгое время была неясна, о чем свидетельствуют дискуссионные разногласия в российских журналах этого времени. Для Пушкина было очевидно, что народное искусство есть подлинно национальное: «…Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [22, с. 39–40]. Справедливость подобной позиции была очевидна и для Белинского: «…Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных формах, — следовательно, если изображение жизни верно, то и народно» [3, т. I, с. 295]. В свете подобного отождествления понятий «народность» и «реализм» уже не было оснований доказывать общенациональное, истинно народное, значение творчества русских классиков.
Однако была и другая сторона вопроса: с конца 1820-х гг. и особенно в 1830-е гг. появилась целая группа авторов-прозаиков, которые, конечно, не достигли уровня гениальных современников, но тем не менее отразили в своих произведениях прошлое и настоящее России: «…Вспомним романы и повести Нарежного, Булгарина, Марлинского, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здесь не место рассуждать о том, кто из них больше сделал, чей талант был выше; мы говорим об общем им всем стремлении – сблизить роман с действительностью, сделать его верным зеркалом» (Там же, т. X, с. 291). Искать некую безусловную «единицу» художественности для соизмерения «больших» и «малых» литературных величин, по-видимому, неперспективно, поскольку малое всегда сопутствует большому. Аналогичным образом дело обстояло и с беллетристами-разночинцами 1860-х гг., не давших эпохально значимых произведений, но обогативших русский реализм (Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, Г. И. Успенский, Н. В. Успенский, Ф. М. Решетников, А. И. Левитов, М. А. Воронов и др.). Так оценочное отношение к отдельным литературным фактам поднялось на уровень методологической проблемы. Об этом опять-таки одним из первых заговорил Белинский: «…Бедна литература, в которой нет гениев, но не богата и та, где или произведения гениальные, или бездарные и пошлые» (Там же, т. VIII, с. 379).
Сказанное делает очевидным то, что методологически несостоятельно представлять историю литературы только как деятельность великих мастеров. Конечно, с точки зрения аксиологии произведение искусства может обладать разной по уровню эстетико-художественной ценностью. Большой талант, тем более гений, – всегда синтез, диалектическое единство того и другого, в то время как произведения менее талантливые ориентированы в основном на воспитательно-просветительский момент. Это хорошо понимал Пушкин: «…Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных» [22, с. 99].
Идея создания массовой литературы для народа, доступной и понятной ему, продолжала существовать в сознании эпохи и в последних десятилетиях XIX в., но теперь имелась большей частью в виду не низкопробная приключенческая или любовно-сентиментальная продукция, а сочинения народные в том истинном смысле, о котором говорилось выше, созданные настоящими мастерами слова, только несколько адаптированные в плане их восприятия. С этой целью по инициативе Л. Н. Толстого было организовано книжное издательство «Посредник» (1884). Кроме художественных произведений, издательство выпускало литературу по сельскому хозяйству, медицине, географии, справочники, журнал и книги для детей. Оно существовало до 1935 г., но уже подчинившись пропагандистско-просветительским требованиям новой власти [13, с. 909].
И новая власть стремилась преуспеть в пропагандистской и просветительской деятельности, привлекала на свою сторону лучшие литературные силы. Так, в 1919 г. А. Блоку было поручено составить список произведений русской словесности XVIII–XIX вв., которые собиралось выпускать по инициативе М. Горького известное издательство З. И. Гржебина. Как пишет поэт, перед ним стояло два пути: путь евангельских Марфы и Марии. Вторая выбрала «благую часть» и села у ног Христа, внимая его речам, в то время как ее сестра Марфа «пеклась» о простых, но понятных вещах, пытаясь как можно достойнее принять Спасителя. Христос, как известно, одобрил поведение Марии, но Блок (здесь не может, разумеется, идти речь о каком-либо противопоставлении) выбрал для себя путь Марфы, продиктованный, как он отмечал, «исторической минутой» – тем печальным обстоятельством, что для новой читающей публики история России, ее «ошибки, падения, взлеты» преданы забвению, а между тем все это «добытое человеческой кровью», человеческими страданиями [5, с. 136–138]. Именно поэтому принцип избирательности, исходящий только из эстетического критерия, поэт счел недостаточным.
Продолжая и развивая мысль Блока, можно сказать, что только произведения искусства в их полноте дают нам абсолютный доступ к информации, и дело реципиента – связать отдельные факты в систему, которую можно применять и в процессе осмысления Бытия (путь Марии), и применительно к быту (дело Марфы). Однако если Бытие (и прежде всего духовное) представлено все-таки в более или менее полном объеме на страницах отечественных шедевров, то быт в его повседневности, материальности, суете, погруженности в заботы «мира сего» чаще всего становился объектом художественного изображения, выпавшим на долю второстепенных и третьестепенных авторов.
Обращение к книжному «Монблану» во все времена способствовало углублению менталитета, который, как доказано наукой ХХ в., формируется только в границах коллективного разума. Ментальные установки – итог многовекового культурно-исторического развития нации, и именно этот пафос пронизывал массовую книжную продукцию, что было особенно актуальным в первые пореволюционные десятилетия. В связи с этим 1920–1930-е гг. были временем горячих дискуссий по поводу массовой литературы. Наиболее веские суждения принадлежали бывшим членам ОПОЯЗа: Б. М. Эйхенбауму и Ю. Н. Тынянову. В статье «О литературной эволюции» (1927) Ю. Н. Тынянов высказал мысль о необходимости пересмотра существующей истории литературы, которая наконец должна стать «наукой»: пересмотру должны быть подвергнуты все ее термины, не только сам термин «история литературы», но и те, которые носят «оценочный характер», такие, как «эпигонство», «дилетантизм» или «массовая литература» [23, с. 271]. В частности, анализируя массовую продукцию уже своего времени, исследователь особо выделяет явление дилетантизма, который, по его мнению, «получает вдруг колоссальное эволюционное значение». Самое понятие «графомания», которое применялось к представителям «эпигонства и ученичества», – «наследство старой истории литературы», следствие ее высокомерия (Там же, с. 272). Тынянов подчеркивал системный характер и отдельного литературного произведения, и литературы в целом: «…Вырывать из системы отдельные элементы и соотносить их вне системы, т.е. без их конструктивной функции, с подобным рядом других систем неправильно» [23, с. 273]. Сказанное касается и феномена массовости в искусстве как одного из системных факторов. Ученый ставил и другой важный вопрос: о возможности перехода художественного факта в бытовую сферу и наоборот. «Так, дружеское письмо Державина – факт бытовой, дружеское письмо карамзинской и пушкинской эпохи – факт литературный» (Там же).
Более того, внимание нескольких литераторов привлекли именно писатели «второго» ряда и даже представители той «низкой» литературы, о которой с презрением писали Пушкин и Некрасов. Так, в 1929 г. вышло исследование Б. В. Шкловского «Матвей Комаров житель города Москвы». В. А. Каверин возродил весьма одиозную, хотя и неоднозначную фигуру О. И. Сенковского, издателя «Библиотеки для чтения», одного из первых «толстых» журналов в России (этой его заслуги никто не отменяет), и в то же время не гнушавшегося травить Пушкина и поставившего перед собой цель любыми средствами под псевдонимом «Барон Брамбеус» превзойти самого Гоголя.
Многие идеи ОПОЯЗовцев получили потом позитивное развитие, особенно в трудах Ю. М. Лотмана и других представителей тартусской школы структурализма. Это идея о системном характере литературы, об относительности художественного и нехудожественного явлений, возможности их взаи-мообогащения, о влиянии быта на искусство и пр. [17, с. 817–826].
Однако в начале 1930-х гг. вопрос о массовой литературе обострился также в связи с частичным переосмыслением художественных достижений истории отечественной литературы, в первую очередь XVIII в. В. А. Десницкий отвергал устоявшийся взгляд на культуру XVIII в. как на единую и преимущественно дворянскую. Он говорил о необходимости «посвятить более серьезное внимание «второстепенным» и «третьестепенным» писателям, пересмотреть традиционные оценки «классиков» XVIII в., обратить внимание на поиски писателями третьесословной аудитории, а значит, отказаться от представлений о «нелитературности», второстепенности «мещанской», «лубочной», «простонародной» литературы [8, с. 122]. Однако концепция ученого, насыщенная фактами, была несвободна от крайностей социологизма, поскольку не классицизм, а именно «линию становления третьесословной литературы» он предлагал считать одной из «ведущих линий» художественного развития XVIII в. (Там же).
П. Н. Берков считал возможным вообще отказаться от термина «массовая литература» в силу его неясности и отождествляемости с «массовым» способом изготовления. Он заменил его понятием «рукописная литература демократических читателей» и неоднократно обращался к исследованию «малых» явлений в литературе [4, с. 459–472]. Подобные заявления оказывали скорее позитивное влияние на изучение русской литературы в ее целостности.
Продолжая академические традиции А. Н. Веселовского, А. Н. Пыпина, В. В. Сиповского, В. Н. Пе-ретца, ученые нового поколения – В. П. Адрианова-Перетц, П. Н. Берков, Н. К. Гудзий, В. Ф. Ржига и др. – приступили к публикации рукописных «памятников письменности». Особо хочется выделить труды интереснейшего литературоведа, начинавшего свою деятельность в предреволюционные годы, В. Ф. Переверзева. Если его монографии о Ф. М. Достоевском и особенно о Н. В. Гоголе носили явную печать социологизма, то позднее он обратился к изучению именно малоизвестных авторов и писал о них так: «…Некогда жившие полной и шумной жизнью, игравшие видную роль в литературной борьбе своего времени, они сошли со сцены, чтобы превратиться в вымершие, своего рода палеонтологические формы, сохраняющиеся в единичных экземплярах у антиквариев да на полках специальных библиотек» [20, с. 20]. Именно Переверзев вернул из исторического небытия имена В. Т. Нарежного, А. Ф. Вельтмана, возродил интерес к М. Н. Загоскину.
Во второй половине 1930-х гг. были введены в научный оборот исследования, раскрывавшие значение крупного писателя в соотношении с поисками и находками его современников, в контексте литературных направлений и школ. В наиболее весомых из них генетический аспект сравнительно-сопоставительного анализа органически сочетался с типологическим. Таковы прежде всего замечательные работы В. В. Виноградова, посвященные творчеству Гоголя и его традициям, развитым писателями
«натуральной школы». Одним из первых ученый высказал мысль о необходимости сочетания синхронного и диахронного аспектов в исследовании литературного окружения великих писателей. При этом функциональное своеобразие массовой литературы наиболее наглядно проявляется именно в синхронном аспекте [7].
Концептуально-итоговый характер носила подготовка к изданию первой академической «Истории русской литературы» в десяти томах (1941–1956), авторы которой систематизировали, а нередко впервые исследовали большой материал, посвященный второстепенным и третьестепенным писателям, что обусловило новаторский характер этого труда. Однако показать взаимодействие «больших» и «малых» сфер литературной жизни изданию не удалось. О крупных писателях говорилось в персональных главах, а творчество второстепенных характеризовалось в обзорных.
Последовавшая трехтомная «История русской литературы» (1958–1964), подготовленная коллективом ученых Института мировой литературы им. М. Горького, стремилась преодолеть этот недостаток. Однако недостаточная разработанность методологии исследования именно «второстепенных» и «третьестепенных» авторов опять привела к тому, что лучшими стали традиционные монографические главы о творческом пути крупнейших писателей.
В дальнейшем фактические и методологические «просчеты» академических «Историй…» пытались устранить коллективные исследования, посвященные развитию отдельных жанров и родов литературы: «История русской критики в двух томах» (1958), «История русского романа в двух томах» (1968–1969), «История русской поэзии в двух томах» (1968–1969), «Русская повесть XIX века (история и проблематика жанра)» (1973), обобщающие труды по развитию романтизма и реализма в русской литературе. В итоге к середине 1960-х гг. исследования типа «Писатель и литературно-общественное движение его времени» стали научно апробированным авторитетным жанром.
Наконец, следует остановиться на последней, четырехтомной «Истории русской литературы», написанной коллективом авторов Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (1980– 1983). По структуре она аналогична десятитомной: заранее оговорена фактическая неполнота издания, главное внимание обращено на тех писателей, творчество которых имеет общенациональное и мировое значение. Однако авторский коллектив, бесспорно, учел накопленный методологический опыт отечественного литературоведения. Это, в частности, проявилось в углублении концептуальности отдельных глав, в расширении сферы сравнительно-сопоставительного и типологического форм анализа. Новаторский характер носят разделы «Проза 1800–1810 гг.» (Н. Н. Петрунина), «Поэзия 1830-х гг.» (Л. М. Лотман), «Поэты некрасовской школы» (Н. Н. Скатов), «Проза 1880-х гг.» (А. Б. Муратов) и др. Тем не менее, как и в предыдущих академических «Историях…», крупный писатель, как правило, рассматривается обособленно от «недоросших» до его уровня современников.
Мы ссылались на статью Д. С. Лихачева из коллективного труда ученых Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР «О прогрессе в литературе», вышедшего в 1977 г. под редакцией А. С. Бушмина. Вопрос о специфике художественного прогресса затрагивает комплекс искусствоведческих, историко-культурных и философско-эстетических проблем, затрагивает он и феномен массовой литературы. Очевидно, что прогресс в искусстве не может быть безличным; носителями прогрессивных идей, конечно, являются первостепенные таланты, гении, роль которых постоянно возрастает. Однако, выдвигая данный бесспорный тезис, Д. С. Лихачев тут же замечает: «…Но прогресс – не в талантах и гениях, а именно в средних возможностях, в совершенствовании их и в расширении и усложнении художественной сущности литературы» [15, с. 50]. Другие авторы также пришли к выводу, что единого критерия художественного прогресса не существует: «…Прогресс искусства выражается прежде всего в том, что каждая эпоха наследует уже созданные ценности, пополняет их своим достижениями» [6, с. 17]. И в этом процессе художественной аккумуляции участвуют не одни гении. Можно говорить лишь о критерии комплексном, который основывается на факте признания последовательного расширения познавательных возможностей искусства, накопления художественных ценностей, посте- пенной активизации их воздействия на общество. И все эти процессы, обусловливающие динамику литературного развития, есть плод совместных усилий великих, «средних» и «малых» талантов.
Из сказанного вытекает, что какие-либо «метаспецифические» признаки «массового» искусства, взятого в историческом развитии, не существуют. Культурно-типологическая природа явления подчинена художественно-литературному и социально-историческому процессу. Именно поэтому содержание и объем понятия «массовая литература» исторически подвижны. На первоначальных этапах развития в семантике термина был важен именно количественный аспект: массовость означала массовый способ распространения. В дальнейшем в это понятие стали объединяться явления по их классово-социальной функции, по принципу противопоставления литературе верхних слоев общества. Оформилась своеобразная ситуация культурно-эстетического дуализма, поддерживаемая социальной оппозиционностью. Наибольшей отчетливости этот процесс достиг в конце XVI – XVII в. Массовая литература, созданная представителями социальных низов, явилась средством их самовыражения. Преобладание в ней сатирического настроя углубляло возникшую оппозицию. Заметим также, что массовое искусство этого периода нельзя считать художественно неполноценным (как это будет впоследствии), т.к. его сравнительно высокий уровень обусловлен максимальной близостью к фольклору. Итак, предмет нашего рассмотрения – явление, границы которого эстетически подвижны. Задача заключается в том, чтобы исследовать диалогические отношения писателей разных масштабов во всей совокупности причинно-следственных и функциональных связей. Это и есть показатель системно-структурного подхода к литературе, о котором наиболее авторитетно писал Ю. М. Лотман: «…Распределение внутри литературы «высокого» и «низкого» и взаимное напряжение между этими областями делает литературу не только суммой текстов (произведений), но и текстом, единым механизмом, целостным художественным произведением» [17, с. 774].
В изучении массовой литературы в отечественном литературоведении прошлого века основной акцент делался на создании трудов обобщающего характера. Можно даже сказать, что изучение творческой индивидуальности автора подчинялось общим законам художественного процесса: смене литературных направлений, борьбе традиционного с новаторским и, конечно, принципу социального антагонизма.
Сейчас, в первом десятилетии XXI в., дело обстоит несколько по-иному. Как объект научного изучения массовая литература не потеряла своей актуальности. В последние годы (2007–2010) вышли учебные пособия, посвященные проблемам массовой литературы (М. А. Черняк, Н. А. Купина, М. А. Литовская, Н. А. Николина), в том числе и XX в.: романам А. Вербицкой, М. Арцыбашева, авантюрному роману 1920-х гг., проблемам формирования отечественного детектива, мелодрамы, занимательного исторического повествования, «дамским» романам, таким авторам, как А. Маринина, Б. Акунин, Д. Донцова и др. В таком случае смысл понятия «массовое искусство» все более приобретает количественную окраску, теряя в эстетическом качестве.
Список литературы Проблема массовой литературы в отечественном литературоведении
- Адрианова-Перетц В. П. Новеллистические сюжеты в фольклоре и русской литературе XVIII века//XVIII век. Сб. X: Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л., 1975.
- Амусин М. …Чем сердце успокоится. Заметки о серьезной и массовой литературе в России на рубеже веков//Вопр. литературы. 2009. № 5-6. С. 8-45.
- Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. М. -Л.: АН СССР, 1953-1959.
- Берков П. Н. К вопросу об изучении массовой литературы XVIII в.//Изв. АН СССР. Отделение общественных наук. 1936. №3. С. 459-472.
- Блок А. А. Собрание сочинений. Т. 6. Проза. М.-Л., 1962.
- Бушмин А. С. О специфике прогресса в литературе//О прогрессе в литературе. Л., 1977.
- Виноградов В. В. Гоголь и натуральная школа. Л., 1925.
- Десницкий В. А. О задачах изучения русской литературы XVIII века//Его же. На литературные темы: сб. ст. Л., 1936. Кн. 2. С. 66-181.
- Жаравина Л. В. В преддверии гоголевского смеха//Рус. лит. 1975. № 1. С. 126-137.
- Жаравина Л. В. Фольклоризм в системе ценностей массовой культуры//Литература и фольклор. Проблемы взаимодействия: сб. науч. ст. Волгоград, 1982. С. 4-13.
- История русской литературы: в 4 т. Т. 1. М.-Л., 1980.
- Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982.
- Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. М., 1968. Т. 5.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971.
- Лихачев Д. С. Прогрессивные линии развития в истории русской литературы//О прогрессе в литературе. Л., 1977. С. 50-77.
- Лотман Ю. М. О содержании и структуре понятия «художественная литература»//Его же. О русской литературе. Статьи и исследования (1958-1995). СПб, 1997. С. 774-788.
- Лотман Ю. М. Массовая литература как историко-культурная проблема//Его же. О русской литературе. Статьи и исследования (1958-1995). СПб., 1997. С. 817-826.
- Макогоненко Г. П. «Враг парнасских уз»//Рус. лит. Л., 1964. № 4. С. 136-148.
- Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция: Вопросы поэтики. Саратов, 1980.
- Переверзев В. Ф. У истоков русского реализма. М., 1989.
- Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики: сб. ст. М., 1983.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М. 1958. Т. 7.
- Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Черняк М. А. Массовая литература ХХ века. М., 2007.