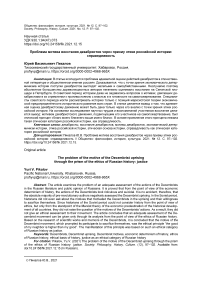Проблема мотива восстания декабристов через призму этики российской истории: справедливость
Автор: Юрий Васильевич Пикалов
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема адекватной оценки действий декабристов в отечественной литературе и общественном мнении россиян. Доказывается, что с точки зрения экономического детерминизма истории поступки декабристов выглядят нелепыми и самоубийственными. Неслучайно поэтому абсолютное большинство дореволюционных авторов негативно оценивало восстание на Сенатской площади в Петербурге. В советский период историки даже не задавались вопросом о мотивах, двигавших декабристами в их стремлении к противостоянию с властью и в готовности на самопожертвование. Специалисты советского периода могли рассматривать историю только с позиций марксистской теории экономической предопределённости исторического развития всех стран. В статье делается вывод о том, что адекватная оценка декабристскому движению может быть дана только через его анализ с точки зрения этики российской истории. На основании исследования научных трудов и воспоминаний участников восстания делается вывод: мотивом декабристского движения, подвигнувшим его участников на самопожертвование, был этический принцип «благо моего ближнего выше моего блага». В основе проявления этого принципа лежала такая этическая категория российской истории, как справедливость.
Декабристы, восстание декабристов, мотивы декабристов, экономический детерминизм истории, этика российской истории, этическая основа истории, справедливость как этическая категория российской истории
Короткий адрес: https://sciup.org/149138820
IDR: 149138820 | УДК: 930.1:94(47).073 | DOI: 10.24158/fik.2021.12.15
Текст научной статьи Проблема мотива восстания декабристов через призму этики российской истории: справедливость
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия, ,
,
Теория предопределённости формирования исторического процесса экономическим развитием не позволяет сколько-нибудь разумно объяснить существенные отличия российской истории от западноевропейской. Российская история – пример пренебрежения к экономическому развитию, она всегда строилась в опоре на основные этические категории общественного бытия. Рассмотрим это на примере влияния на неё такой этической категории, как «справедливость».
Выше «правды» в иерархии этики российской истории расположилась «справедливость». На эту высоту её поднял первый этический принцип: благо моего ближнего важнее моего личного блага (Дьяконов, 1989). В толковом словаре русского языка В.И. Даля нет слов «справедливость» и «справедливый», поскольку это более поздние вариации слова «праведный», которое трактуется как «оправданный житием, правдивый на деле, безгрешный»1.
И. Дьяконов утверждает, что «прирождённая сила, делающая человека праведным, может быть названа совестью. Можно также сказать, что это “Царство Божие внутри нас”, но это значит просто выразить ту же мысль другими словами» (Дьяконов, 1989).
Если перед обществом стоял нравственный выбор: поступить по правде или по совести, то, как правило, приоритет отдавался второму. При этом в коллективном сознании русских укоренилось представление о бескорыстности праведности. Подтверждением служит одна из многих пословиц на эту тему: «По совести жить, денег не нажить».
Одним из наиболее ярких примеров российской истории, который иллюстрирует этические основы её формирования в противовес экономическим, является восстание декабристов. До сих пор в отечественной научной литературе нет однозначной оценки этого исторического события. И это неудивительно, поскольку сама суть происшедшего не вписывалась в рамки объяснения истории с точки зрения экономического детерминизма: дворяне-декабристы восстали против императора с требованием уничтожить тот экономический строй России, который составлял основу их благосостояния. Иными словами, они требовали лишить себя самих главных источников своей экономической жизни, средств к существованию.
Вот почему первые же отклики на их выступление со стороны властей носили осудительный характер. В манифесте Николая I читаем: «Не в свойствах и не во нравах русских был сей умысел, составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательностью дерзновенную, но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет неприступно»2. Здесь мы видим прозрачный намёк на «тлетворное влияние Запада». Дескать, декабристы набрались крамолы вольнодумства, черпая её из работ авторов Западной Европы.
Один из выдающихся революционеров в истории России В.И. Ленин давал очень высокую оценку роли декабристов в российской истории. Так, в статье «Памяти Герцена» примечательны следующие цитируемые им слова философа о декабристах: «И между ними (дворянами – прим. Ю.В. ) развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных как Ромул и Рем, молоком дикого зверя… Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель…»3. В.И. Ленин неслучайно привел в своей статье эти сильные слова Герцена о декабристах – он целиком был согласен с такими оценками восставших. В статье «Доклад о революции 1905 года» он идёт ещё дальше, называя декабристов революционерами: «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами»4. Таких примеров высокой оценки роли декабристов в российской истории у В.И. Ленина было немало. Однако и он не удержался, отметив своё непонимание истинных мотивов поступков декабристов: «Странные русские революционеры никогда не обращали серьезного внимания на вопрос о республике, никогда не считали его “практическим вопросом”, – народники, бунтари и пр. потому, что хотели прыгнуть прямо от самодержавия к социалистической революции»5.
Итак, для В.И. Ленина декабристы – всё-таки «странные русские революционеры». Он прекрасно понимал, что люди, выступавшие за лишение дворян жизненных источников существования, обрекают себя на гибель как социальная группа российского общества. По меньшей мере это было действительно странно, то есть ненормально. И в этом В.И. Ленин солидаризуется с оценкой декабристов официальной властью России.
Возникает вопрос: в чём причина раздвоения ленинских оценок декабристов? Здесь очевидно, что она кроется в уходе от объяснения мотивов декабристского движения. Ни В.И. Ленин, ни Николай I нигде не пытались найти мотивы столь «странного» поведения участников восстания на Сенатской площади. В.И. Ленина декабристы интересовали лишь как важное звено революционного процесса в России. Почему они так поступили, его не волновало. Запомним это и идём дальше.
В 1911 году вышел третий том «Русской истории с древнейших времен» М.Н. Покровского. В главе, посвященной событиям 1825 года, ученый разоблачает «легенду о декабристах», показывает их движение как застывшее и неподвижное явление (Покровский, 1954). Очевидно, что и в трактовке М.Н. Покровского декабристы не выглядят героями с адекватным поведением. Это при том, что автор работы сам был не только известным историком, но и революционером, принимавшим активное участие в событиях 1905 г. в России.
В 1913 г. вышло второе издание речей и очерков В.О. Ключевского, в котором он писал: «Декабристы – историческая случайность, обросшая литературой» (Ключевский, 1913: 73). В данном случае историк также игнорирует разъяснения мотивов, которые подтолкнули дворян к восстанию. Он лишь подчёркивает, что это была случайность, аномалия в общественном движении России.
Как видим, в дореволюционной историографии движение декабристов оценивалось чаще всего негативно, поскольку сильно выбивалось из общего ряда адекватного общественного поведения соответствующей социальной группы российского государства. Ещё раз отметим, что столь осуждающая оценка действий декабристов в российской истории проистекала из невозможности объяснить их поведение с точки зрения экономического детерминизма отечественной истории. Никто из авторов приведенных выше оценок не задавался вопросом о мотивах общественной деятельности декабристов.
Казалось бы, что после Октябрьской революции 1917 г. декабристы должны были получить адекватную оценку своей деятельности. Однако освещение их роли и в российской истории пошло по неоднозначному пути.
Всесоюзное общество бывших политкаторжан и политических ссыльных в 1920-х гг. проводило активную работу по изучению декабристов в рамках подготовки к 100-летнему юбилею восстания на Сенатской площади. «Правильно понять все эти стороны политической каторги разных периодов, – указывал один из историков общества М.М. Константинов, – можно только в свете происходивших в стране классовых сдвигов и изменений всей обстановки классовой борьбы. Без этого мы получим не историю политкаторги, а собрание более или менее значительных, интересных или в той или иной степени достоверных эпизодов… Почему, например, несмотря на строгость каторжного режима, мы замечаем почти полное отсутствие активных выступлений против него со стороны декабристов, – если исключить историю с заговором Сухинова?» (Константинов, 1933: 62). В целом М.М. Константинов даёт негативную оценку действиям декабристов, заявляя, что не считает их подлинными революционерами. Здесь, очевидно, свою роль сыграла «классовая ненависть» к дворянам как к контрреволюционной силе, с которой большевики сражались на полях Гражданской войны. Следовательно, и новой власти декабристы не были понятны, поэтому «своими» их не считали. При этом следует отметить, что и М.М. Константинов как историк не задавался вопросом о мотивах восстания декабристов. Он лишь оценивал их жизнь в ссылке и на этом основании делал вывод о «нереволюционности» декабристов в целом.
Обозначенную позицию можно назвать «осудительным» направлением в оценке декабристов в отечественной историографии.
Положительные оценки исследователями деятельности декабристов в основном касаются периода после восстания, времени их нахождения на каторге или в ссылке. Понятно, что даже приблизительное число публикаций на эту тему невозможно рассмотреть в рамках статьи. Поэтому проанализируем самые типичные характеристики декабристов в трудах ученых разных периодов историографии.
В послевоенный период в отечественной исторической литературе сложилось целое направление под названием «декабристоведение». Одним из наиболее видных представителей его была академик М.В. Нечкина. Исследуя каторжно-ссыльный период жизни декабристов, она писала: «Выйдя на поселение по отбытии каторги, они устраивали школы, распространяли среди населения сведения по сельскому хозяйству и ремеслу, организовывали во многих отношениях образцовые для того времени хозяйства» (Нечкина, 1955: 447). И далее: «общение декабристов с народами Сибири содействовало историческому продвижению последних – недаром благодарная память о них сохранена в якутском и бурятском народах» (Нечкина, 1955: 448).
М.В. Нечкина определила и исследовательские направления анализа деятельности декабристов: «тщательное выявление первоисточников»; далее – изучение «...хорошо подготовленных и организованных публикаций главных архивных комплексов темы»; затем «...составление полной библиографии опубликованных работ о декабристах в Сибири» (Нечкина, 1975: 7–8).
Надо сказать, что именно эти направления исследования декабристского движения получили наибольшее развитие в трудах историков. До начала 1990-х гг. было опубликовано большое количество работ, посвящённых источниковедению декабристской темы. Был накоплен значительный фактический материал о деятельности большинства участников декабристского движения. В то же время вопрос о мотивах восставших дворян так и остался за скобками исследований. Не было попыток объяснить истоки «ненормальности» их поступка с точки зрения экономического детерминизма истории. То есть, историки-марксисты также не пытались определить мотивы декабристов. Вероятно, потому, что с позиций марксистского экономического детерминизма истории это сделать невозможно.
С распадом СССР утих интерес к декабристской тематике. Продолжали выходить труды на эту тему, но, в основном, освещавшие те же направления исследований, которые определились в советский период. Среди них следует особо отметить работу В.С. Колесниковой. Она исследовала декабристское движение с точки зрения его восприятия Николаем I: «Факт неоспоримый: декабристы, их дерзкая попытка замахнуться на святое и незыблемое для Николая I самодержавие жили в душе императора до последней минуты его жизни. И тут дело не только в самом выступлении. Соверши такой мятеж люди другого слоя российского общества, будь то разночинная или купеческая, к примеру, молодежь, память монарха стерла бы этот инцидент как досадный после примерного наказания. Но дерзновение декабристов – людей лучших, старейших и родовитых дворянских фамилий, многие из которых были его сверстниками, с которыми он встречался в свете или о которых слышал, – означало для него совсем иное» (Колесникова, 2008: 53). Здесь проступает явная попытка автора оценить содеянное декабристами с этической точки зрения. Именно таким подходом эта работа и выделяется среди прочих.
Очевидно, что и в этом периоде «декабристоведения» мотивы, которые двигали декабристами в их восстании против самодержавия, не прояснены исследователями.
Анализ интересующей нас проблемы был бы неполным без изучения того, как сами декабристы формулировали свои мотивы, которые подвигли их на восстание. Здесь необходимо обратиться к их мемуарам.
В «Записках» С.П. Трубецкого читаем: «Как же я благословляю десницу Божию, проведшую меня по терновому пути и тем очистившую сердце моё от страстей, мною обладавших, показавшую мне, в чём заключается истинное достоинство человека и цель человеческой жизни, а между тем наградившую меня и на земном поприще ни с каким другим не сравненным счастием семейной жизни и неотъемлемым духовным благом, спокойной совестью»1. Потрясающе глубокие с точки зрения духовности слова человека, для которого земные страсти остались позади, а главной целью жизни стали нравственные заветы, первый этический принцип российской истории: благо моего ближнего важнее моего личного блага. С.П. Трубецкой, князь, элита дворянства, променял дворец на ссыльную избу ради блага российского народа. Может показаться странным, почему этот мотив не был замечен ни дореволюционными авторами, ни советскими. Всё просто: первые должны были осудить декабристов за бунт против самодержавия, а вторые были далеки от религии и религиозной этики вообще. Для них главным стимулом истории являлась потребность экономического развития, а соображения этики были исключены из их научного аппарата. Вот почему нравственные мотивы поступков участников восстания на Сенатской площади даже не рассматривались, а экономический детерминизм истории не мог их объяснить.
Далее С.П. Трубецкой ещё раз подчёркивает этическую основу поведения декабристов: «Их было мало, но они уверены были, что круг их ежедневно будет увеличиваться, что другие, им подобные, не захотят ограничиться славою военных подвигов и пожелают оказать усердие своё и любовь к Отечеству не одним исполнением возложенных службою обязанностей, но посвящением всех средств и способностей своих на содействие общему благу во всех его видах» 2. И здесь вновь: благо моего ближнего важнее моего блага.
Очень созвучны этому же этическому принципу российской истории слова другого декабриста – Е.П. Оболенского: «Это устремление удовлетворялось отчасти вступлением в члены тайного общества. Союз благоденствия, – так оно называлось, – удовлетворял всем благородным стремлениям тех, которые искали в жизни не одних удовольствий, но истинной нравственной пользы, собственной и всех ближних»3.
С точки зрения декабриста А.М. Муравьёва, одним из главных толчков, подвигнувших дворян создать тайные общества протии самодержавной власти, стало «предательство» Алексан- дром I таких нравственных идеалов, как справедливость, свобода, общественное благо. Он пишет: «В начале своего царствования Александр был преисполнен великодушными решениями. Он положил конец ужасным, нелепым притеснениям предыдущего царствования. Он положил себе задачей заставить забыть вопиющие несправедливости своего отца. …Рабство, власть безудержная были противны душе его, ещё здравой»1. Однако постепенно патриоты России стали замечать изменения в его поведении и мыслях, которые означали отход от первоначальных прогрессивных настроений. Отзываясь на факт дарования Александром I конституции Польше, А.М. Муравьёв с горечью отмечал: «Занятый всецело Европой, бросаясь с одного конгресса на другой, находясь вполне под влиянием Меттерниха, он отрёкся от своих благородных и великодушных предположений. Польша получила конституцию, а Россия в награду за свои героические усилия в 1812 году получила – военные поселения!»2.
Вот основа поступков декабристов, их нравственный мотив – попрание справедливости как одной из главных этических ценностей российского общества. Они надеялись создать справедливое государство вместе с императором, помогая ему в этом. Но он предал их идеалы. Им ничего не оставалось кроме того, как пойти против самодержавия вообще. Именно нравственная категория «справедливость», а не материальные блага стали той основой, которая объединила декабристов и побудила их на восстание, а следовательно, стала одним из нравственных начал, формирующих российскую историю.
В поддержку утверждения С.П. Трубецкого о том, что нравственные идеалы стоят выше материальных благ, звучит повествование Н.Р. Цебрикова. Он находился в тюрьме и ожидал суда, когда в своей камере, или, как он её называл, «куртине», он обнаружил надпись на обратной стороне оловянной тарелки – это были нацарапанные гвоздём стихи К.Ф. Рылеева: «Тюрьма мне в честь, не в укоризну, за дело правое я в ней, и мне ль стыдиться сих цепей, когда ношу их за Отчизну»3. Далее Н.Р. Цебриков пишет: «Подобные железы не замедлили и мне надеть; и в них я находился три месяца и девятнадцать дней!»4. И здесь снова обнаруживается нравственный мотив, который толкал декабристов на самопожертвование ради блага ближних своих. К.Ф. Рылеев выразил его в стихах на дне оловянной тарелки, а Н.Р. Цебриков – признанием чести быть закованным в цепи за любовь к ближним своим.
Высокий нравственный идеал, который руководил поступками декабристов, был подтвержден и пронзительными строками из воспоминаний М.С. Лунина: «Не станем судить тех, коих дело ещё не совершено, дабы в свою очередь не осудили нас те, которые воспользуются их трудами»5. Он указывал на то, что никто не имеет морального права осуждать декабристов, которые пожертвовали своими жизнями и судьбой ради блага потомков, даже если им не удалось достигнуть намеченных целей. Он верил, что потомки, которые будут жить в свободной России, не поймут таких «судей».
Обратимся ещё раз к В.О. Ключевскому. Выше уже приводилась цитата из его труда, где он писал о том, что декабристы – это историческая случайность, обросшая литературой. Что имел в виду историк? Только то, что в истории не бывало прежде случаев, когда представители дворянского класса требовали бы свержения монархии как формы государственного правления. По сути, декабристы выступили против самих себя в смысле экономического устройства общества, за уничтожение самих себя как класса. Но В.О. Ключевский не давал оценки мотивам поступков декабристов. В то же время он был одним из немногих, кто поставил себе цель сформулировать и объяснить эти самые мотивы. В своём «Курсе русской истории» он кропотливо исследует процесс формирования мотивов общественной деятельности декабристов. В итоге он объясняет, что «большею частью то были добрые и образованные молодые люди, которые желали быть полезными Отечеству, проникнуты были самыми чистыми побуждениями и глубоко возмущались при встрече с каждой, даже с самой привычной, несправедливостью, на которую равнодушно смотрели их отцы» (Ключевский, 1958: 248).
Итак, якорное слово в этом высказывании В.О. Ключевского – «справедливость». Как только мы отвлекаемся от принципа экономического детерминизма мировой истории, мы обращаем взгляд на другой принцип, который означает, что российская история формировалась на этических категориях. В этом – её главное отличие от истории стран Запада. Справедливость как мощное ментальное чувство любого россиянина была главным мотивом поступков декабристов, которое и привело их к восстанию, а затем – к казням и каторге. Они пожертвовали всем, что у них было, ради восстановления справедливости для народа России. В этом и реализовался первый принцип этики российской истории: «благо моего ближнего выше моего блага».
Список литературы Проблема мотива восстания декабристов через призму этики российской истории: справедливость
- Дьяконов И. Киркенесская этика // Знание – сила. 1989. № 9. С. 82—87.
- Ключевский В.О. Курс русской истории : в 5 ч. М., 1958. Ч. 5. 503 с.
- Ключевский В.О. Очерки и речи. М., 1913. 514 с.
- Колесникова В.С. Николай I. Лики масок государя: психологические этюды. М., 2008. 268 с.
- Константинов М.М. Политическая каторга на страницах журнала «Каторга и ссылка» (некоторые итоги) // Каторга и ссылка. 1933. № 4–5. С. 55–63.
- Нечкина М.В. Движение декабристов : в 2 т. М., 1955. Т. 2. 506 с.
- Нечкина М.В. Несколько слов о сибирском трехтомнике // В сердцах Отечества сынов. Иркутск, 1975. С. 5–10.
- Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен : в 3-х т. М., 1954. Т. 3. 342 с.