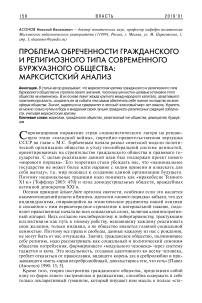Проблема обреченности гражданского и религиозного типа современного буржуазного общества: марксистский анализ
Автор: Асонов Николай Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье автор доказывает, что марксистская критика гражданского и религиозного типа буржуазного общества не утратила своего значения, поскольку ценностно-целевые установки этого общества не изменились. В их основе лежит жажда крупного международного капитала, захватившего политическую власть, сохранить ее за собой и тем самым обеспечить себе полное господство во всех сферах общества. Значит, надеяться на суверенитет и честный «классовый мир» нет смысла. Укрепить их можно только путем отбора и внедрения своих лучших гражданско-религиозных традиций соборности, учитывая марксистскую критику.
Марксизм, гражданское общество, религиозный тип общества, демократия, буржуазия
Короткий адрес: https://sciup.org/170170854
IDR: 170170854 | DOI: 10.31171/vlast.v27i1.6244
Текст научной статьи Проблема обреченности гражданского и религиозного типа современного буржуазного общества: марксистский анализ
С провоцировав поражение стран социалистического лагеря на решающем этапе «холодной войны», партийно-правительственная верхушка СССР во главе с М.С. Горбачевым начала развал советской модели политической организации общества в угоду неолиберальной системе ценностей, ориентированных на строительство гражданского общества и правового государства. С целью реализации данной идеи был поддержан проект нового «мирового порядка». Его теоретики стали убеждать нас, что «национальное государство не может более идти наравне с ходом времени и извлекать для себя выгоду», т.к. мир подошел к созданию единой организации будущего. Поэтому национальные традиции надо понимать как «мракобесие Темного ХІ в.» [Тоффлер 2003: 470] и плод доиндустриальных обществ, враждебных истинной демократии XXI в.
Осеняя принцип laisser faire ореолом святости, особенно если это касается взаимоотношений власти и бизнеса, идеологи «нового порядка» забыли, что дух индивидуализма, опирающийся на эгоистические рудименты нашей психики и связанное с ним первоочередное стремление к материальной наживе, подавляет нравственные начала во всех социальных слоях, включая административный аппарат. Ведь согласно неолиберализму и либертарианству, трактующим коллективизм как путь к новому рабству, мешающему каждому реализовать свои желания, только индивид, а не общество является главной социальной ценностью. Поэтому все права и свободы, данные каждому из нас с рождения, не могут быть от нас отчуждены. Значит, гражданское общество, подчинившее себе религию, надо рассматривать как социальный и политический синоним общества потребления, формирующего «модульного человека» через систему гаджетов и кича. Эта модульность, создавая адаптивного ко всему человека, требует отказаться от православия, видящего корень зла в сребролюбии и призывающего иметь «нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть» [Павел (Апостол) 1990: 13; 5].
Кроме того, теория построения гражданского общества, представляя собой одну из форм левого экстремизма и радикализма, способна содержать в себе только декларативный гуманизм, который внушает нам мысль о пользе «ста- бильной демократии» и ее «политической культуры» для всего мирового сообщества. Тем самым он призывает нас поверить в успех построения «социального государства» как развитого типа гражданского общества, где «моральное сообщество, объединенное преданностью своих членов идеалам свободы... станет всеобщим и выкует для всех наций новый мировой порядок, намного более прочный и безопасный, чем любой, какой нам до сих пор известен» [Киссинджер 2016: 484].
Внедрение такого порядка должно сокрушить традиционную гражданскую и религиозную общность в России с ее соборной культурой, лишенной установки на ценностно-целевые ориентиры индивидуализма, опирающиеся на эгоизм «социального государства» с его типом гражданского общества. Но именно такого рода общество обречено на вырождение и гибель, т.к., по мнению А.С. Панарина, «нынешние победители… в глобальном масштабе, не рассчитывая привлечь на свою сторону лучших, активизируют худших, выдавая их за современный человеческий стандарт. ‹…› Такая стратегия победителей чревата глобальным гуманитарным риском для всего человечества. …который поневоле превратит этот порядок в заложника голой полицейской силы – неприкрытой диктатуры меньшинства» [Панарин 2006: 14].
По этой причине особую значимость приобретает понимание буржуазного типа гражданского общества, сделанное К. Марксом и Ф. Энгельсом. Являясь последователями Г.-В. Гегеля, они взяли на вооружение его критическую оценку человека как политического существа. В третьей части «Лекций по философии религии» он писал: «Некоторые думают, что они высказывают чрезвычайно глубокую мысль, говоря: человек по своей природе добр; они забывают, что гораздо больше глубокомыслия в словах: “человек по своей природе зол”». Используя эту оценку в качестве научной гипотезы, основоположники марксизма сделали вывод, согласно которому «у Гегеля зло есть форма, в которой проявляется движущая сила исторического процесса. ‹…› С одной стороны, всякий новый шаг вперед необходимо является оскорблением какой-нибудь святыни, бунтом против старых, отживающих, но освященных привычкой отношений. С другой стороны, с тех пор, как возникла противоположность общественных классов, двигателями исторического развития сделались дурные страсти людей: жадность и властолюбие» [Энгельс 1987: 307-308]. Посему, указывая на «лживость учения буржуазной политической экономии о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и всеобщем благоденствии», они дали понять, что «для капиталиста не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов» [Энгельс 1986: 333]. Чтобы эта бездушная социальная деятельность имела сакральное оправдание, религия должна стать «достоянием господствующих классов, пользующихся ей, как средством управления, как уздой… Вдобавок, на деле оказывается совершенно безразличным, – верят или не верят сами эти господа в свои религии» [Энгельс 1987: 325].
В той же степени буржуазной демократии нужен союз с наукой, ибо наука наделяет буржуазию прикладными знаниями, способствуя развитию капитала. При этом капитал, как и политическое господство, надо защищать, а для этого нужна идеология и сила. Поэтому буржуазия стремится «застолбить» за собой монопольное владение медийным пространством, силовыми структурами и нормативно-правовой сферой, где «права человека, в отличие от прав гражданина, не что иное, как права члена гражданского общества, т.е. эгоистического человека, человека, обособленного от людей и общежития». Подобная «индивидуальная свобода, как и индивидуальное применение ее, образует основу гражданского общества. Она заставляет всякого человека находить в другом человеке не осуществление, а, наоборот, границу своей свободы. Но превыше всего она ставит право человека наслаждаться и пользоваться по своей воле своим преимуществом, доходами, продуктом труда и предприимчивости». Причем безопасность, являясь высшим социальным понятием гражданского общества, остается понятием полицейским, декларируя, что все «общество существует лишь для того, чтобы обеспечить каждому его члену неприкосновенность его личности, его прав и его собственности. В этом смысле… безопасность есть, скорее, гарантия его эгоизма. Следовательно, ни одно из так называемых прав человека не выходит за пределы эгоистического человека... как индивида, ушедшего в себя, в свои частные интересы и свою частную волю и обособившегося от общежития» [Мысли… 1927: 208, 209].
В таких условиях «“свободная человечность” и ее “признание” суть не что иное, как признание эгоистического гражданского индивидуума», занятого «грязной погоней за наживой». Здесь «религия приносится в жертву государству», а «рабство гражданского общества» приобретает «видимость величайшей свободы», где «на место привилегии стало право». При этом «право человека на свободу перестает быть правом, как только оно вступает в конфликт с политической жизнью, тогда как в теории политическая жизнь есть… гарантия человеческих прав» [Маркс, Энгельс 1984: 124-125, 128].
Торгашество делается сущностью и светским культом повседневной жизни человека, а деньги – его светским богом. И теперь «в их глазах мир не что иное, как биржа, и они убеждены, что на этом свете у них нет иного назначения, как стать богаче своих соседей. Торгашество овладело всеми их помыслами». Таким образом, деньги сделались «всеобщей, в себе самой конституировавшейся стоимостью всех вещей» [Мысли… 1927: 213].
Чем в таких условиях становится демократия? А не чем иным, как «недостатком в людях, которые могли бы управлять вами, и покорность этому неизбежному недостатку, попытка устроиться без них. Никто тебя не гнетет, тебя, свободного и независимого избирателя». При этом, цитируя Карлейля, Ф. Энгельс указывает нам на наше новое состояние рабства: «…ты раб… своих собственных животных похотей, и ты говоришь еще о свободе! Ты круглый дурак! Представление, будто свобода человека состоит в том, чтобы подать свой голос на выборах… это представление одно из самых смешных в свете. Свобода, покупаемая тем, что вы себя взаимно изолируете, ничего общего не имеете друг с другом, кроме наличных денег и главной кассовой книги, эта свобода в конце концов окажется для миллионов трудящихся свободой голодной смерти» [Мысли… 1927: 359].
Рассчитывать здесь на пресловутый ультраимпериализм К. Каутского, обещающий врастание капитализма в социализм, или на иные модели, создающие «классовый мир» и общественную безопасность, не приходится. Значит, если мы хотим добиться снижения всех форм преступности и дать нашим гражданам возможность спокойно жить и трудиться, мы должны идти в будущее своим путем и опираться на свой гуманистический потенциал национально-исторических традиций и их религиозных ценностей и целей, уходя от буржуазной модели гражданского общества. Для России это соборные начала, успешным выражением которых стала власть Советов.
Статья написана при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00644-ОГН «Гражданский и религиозный типы общности в современном политическом процессе».
Список литературы Проблема обреченности гражданского и религиозного типа современного буржуазного общества: марксистский анализ
- Киссинджер Г. 2016. Мировой порядок. М.: АСТ. 512 с
- Маркс К., Энгельс Ф. 1984. Святое семейство. - Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. М.: Политиздат. Т. 1. 549 с
- Мысли К. Маркса и Ф. Энгельса о религии. 1927. М.: Атеист. 450 с
- Панарин А.С. 2006. Правда железного занавеса. М.: Алгоритм. 336 с
- Павел (Апостол). 1990. Послание к Евреям Святого Апостола Павла. - Библия. М. 1212 с
- Тоффлер Э. 2003. Метаморфозы власти. М.: АСТ. 669 с
- Энгельс Ф. 1986. Развитие социализма от утопии к науке. - Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. М.: Политиздат. Т. 5. 779 с
- Энгельс Ф. 1987. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. - Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. М.: Политиздат. Т. 6. 664 с