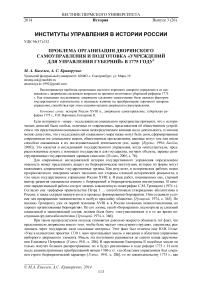Проблема организации дворянского самоуправления и подготовка «учреждений для управления губерний» в 1775 году
Автор: Киселев М.А., Криворучко А.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Институты управления в истории России
Статья в выпуске: 3 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема организации местного коронного аппарата управления в ее взаимосвязи с дворянским сословным вопросом ко времени подготовки губернской реформы 1775 г. Как показывает исследование, дворянское сословное самосознание было важным фактором государственного строительства и оказывало влияние на преобразование коронного аппарата управления, способствуя при этом созданию органов дворянского самоуправления.
История России xviii в, дворянское самоуправление, губернская реформа 1775 г, р. и. воронцов, екатерина ii
Короткий адрес: https://sciup.org/147203868
IDR: 147203868 | УДК: 94(47):352
Текст научной статьи Проблема организации дворянского самоуправления и подготовка «учреждений для управления губерний» в 1775 году
Если историки и – шире – исследователи социального пространства признают, что у исторических деятелей были особые, отличные от современных, представления об общественном устройстве и эти представления оказывали самое непосредственное влияние на их деятельность, то вполне можно допустить, что у исследователей социального мира также могут быть свои, сформированные современным им социальным миром, общественные представления, каковые могут тем или иным способом сказываться в их исследовательской деятельности (см., напр.: [ Бурдье , 1994; Бикбов , 2003]). Это касается и исследований государственного управления, когда «интеллектуалы, предрасположенные думать с помощью государства и для государства, изучают объекты, заранее сконструированные государственным здравым смыслом» [ Пэнто , 2005, с. 76].
Для современных исследователей истории государственного управления определенную опасность может представлять акцент на бюрократические институции, которые по форме могут напоминать современные государственные органы. Как результат, в исторических работах поиск прогрессистского измерения может заслонить все стороны сложной исторической реальности, в том числе государственное управление России XVIII в. В ряде работ, посвященных ему, главный вектор развития связывается именно с бюрократией и бюрократическими институциями. В качестве парадигмальной работы следует назвать классическую монографию С.М. Троицкого (1974 г.). Согласно ему «реформы правительства Петра I … способствовали утверждению абсолютизма в России, а также сыграли важную роль в процессе формирования бюрократии. Они создавали условия для превращения чиновничества в особую прослойку общества» [ Троицкий, 1974, с. 365]. По мнению Троицкого, уже «в первой половине XVIII в. в России сложилась немногочисленная, но хорошо организованная бюрократия». По его логике, такой «бюрократия», несмотря на ее сложный социальный и национальный состав, должна была быть: «могущественным и в то же время послушным орудием абсолютизма» [ Троицкий, 1974, с. 366].
При таком прогрессистском подходе становится довольно непросто объяснить тот факт, что представители дворянства вместо того, чтобы быть частью «послушного орудия», стремились реализовать через государство свои сословные интересы. Этот факт был отмечен еще Ю.В. Готье: «Уже в шляхетских проектах 1730 г. ясно проглядывает мысль о введении в областное управление выборного дворянского элемента. Мысль эта постепенно развивается до самого конца царствования Елизаветы Петровны» [ Готье, 1941, с. 286]. В царствование Екатерины II подобные мысли не только получат большее распространение, но и будут реализованы в ходе реформ 1775 г. И если после административных преобразований начала 1760-х гг. «за областным управлением был сохранен строго бюрократический характер» [ Готье, 1941, с. 286], то по законодательству 1775 г., как
отмечал еще И.И. Дитятин, «все коллегиальные местные учреждения … кроме губернского правления и трех палат – гражданской, уголовной и казенной, были выборные по составу, исключая председателей» [ Дитятин, 1885, с. 1]. Как результат, историкам приходится констатировать некоторую двойственность тенденций развития государственного аппарата России во второй половине XVIII в., указывая как на развитие бюрократии, так и на повышение роли сословных элементов в управлении. Например, Л.Ф. Писарьковой (2007 г.) констатируется, что с одной стороны, «преобразования Екатерины II стали важным этапом в развитии бюрократии», а с другой – в ходе губернской реформы 1775 г. «была создана разветвленная сеть местных учреждений, прежде всего, судебных, образованных по сословному принципу … предоставлено широкое участие в управлении выборному сословному элементу , особенно в уездах» (выделено нами. – М.К., А.К. )» [ Писарькова, 2007, с. 537]. Таким образом, можно сказать, что в России XVIII в. бюрократическая система местного управления эволюционировала в сословно-бюрократическую. Инициаторы такой эволюции в целом известны – это представители дворянства, которые во второй половине XVIII в., занимая важные посты в государственном управлении, начали его менять в соответствии со своими сословными представлениями, включая в него и параллельно создаваемые органы сословного самоуправления. Очевидно, что такие факты едва ли можно согласовать с мнением Троицкого о наличии в Российской империи единой бюрократии к середине XVIII в. Исходя из прогрессистской, «бюрократической» перспективы следовало бы ожидать дальнейшего развития системы управления по пути бюрократизации (создания специальных учебных заведений, введения образовательного ценза и экзамена на должность, обеспечения приоритета профессиональных качеств перед происхождением и т.д.). Однако в эпоху Екатерины II вместо этого правительственная политика была направлена как на создание и развитие дворянских органов самоуправления, так и на поощрение их участия в формировании аппарата коронного управления.
В связи с этим стоит обратить внимание на те работы, которые предлагают более сложные и менее прогрессистские подходы к вопросу о степени бюрократизации государственного управления в XVIII в. Прежде всего необходимо рассмотрение дискуссионную статью Дж. Ле Донна (1993 г.). В ней историк довольно критично отзывается об использовании термина «бюрократ» в историографии. По его мнению, этот термин применялся слишком вольно: «даже персоны, не вовлеченные в чиновничью работу, назывались бюрократами или чиновниками». Он считает, что историки должны быть более строги и точны при использовании специальных терминов. Ле Донн полагает, что «должна существовать определенная степень социальной гомогенности в бюрократии… Также должны быть хорошо обоснованные правила производства в высшие чины, и хотя некоторые действительно существовали (в России. – М.К., А.К. ), они не применялись ко всем социальным категориям, объединяемым под термином бюрократия». Не находя ряда признаков бюрократии, Ле Донн утверждает, что это понятие «следует заменить терминами, которые более близки феноменам, которые они определяют». Согласно Ле Донну «можно легко различить пять социальных категорий, условно объединяемых вместе под термином бюрократия: 1) клерки различных подразделений, которые не были включены в Табель о рангах; 2) гражданские служащие, расположенные в позиции от 14 до 9 (класса Табели о рангах. – М.К., А.К. ); 3) обер-офицеры в чинах от 14 до 9; 4) гражданские служащие, расположенные в позиции от 8 до 5, соответствовавшие штаб-офицерам в армии, и 5) генералитет, гражданский и военный, в чинах от 4 до 1». После этого Ле Донн переходит к конкретному анализу выделенных им групп гражданских служащих. Во-первых, он рассматривает положение служащих до 8 ранга и приходит к выводу, что нерегулярность жалования, подверженность телесным наказаниям, зависимость от высших чинов свидетельствуют о том, что они не были «подлинной бюрократией». И Ле Донн определяет их «коллективным домоуправительным штатом правящего класса». Что же касается оставшихся, то «все офицеры и все чиновники в рангах от 8 до 1 были наследственными дворянами и составляли … правящий класс Империи». Согласно Ле Донну, правящий класс «составлял две частично пересекающиеся группы. Офицеры и чиновники в гражданском ведомстве (часто, мы знаем, бывшие офицеры) составляли … политический аппарат . Те, кто не занимал места в ведомстве или в армии, которые жили в столицах или провинциях, составляли … политическую инфраструктуру » [ Le Donne, 199, р. 139–141]2.
Данные рассуждения Ле Донна – это, скорее, повод для дискуссии, чем концепция, которую следует безоговорочно принять. Тем не менее важен сам подход Ле Донна, который, вводя социальное измерение и ставя проблему реальных карьерных возможностей социальных страт, произ- водит своеобразную «дебюрократизацию» государственного управления Российской империи XVIII в. Конечно, доекатерининская система государственного управления строилась по преимуществу на системе указного назначения на должности в коронном аппарате. Однако такие указные назначения едва ли соответствовали веберовскому идеалу бюрократии и были вполне встроены в сословную структуру российского общества. Так, главным кадровым агентством империи, руководившим отбором претендентов на руководящие должности, была Герольдмейстерская контора. Именно одной из главных функций этого государственного органа являлось отслеживание естественного воспроизводства дворянства, представителям которого в итоге и были уготованы руководящие должности, а не неким «бюрократам». В то же время канцелярские служители (так называемые подьячие), подобно дворянам, зачастую воспроизводили себя естественным способом, превращая канцелярскую службу в вариант наследства (см., напр.: [Киселев, 2012]). Следовательно, можно сделать вывод, что одной из функций государственного аппарата было объединение правящего класса в корпоративную структуру (ср.: [Киселев, 2013, с. 38]). Такое положение вещей едва ли делает возможным жесткое противопоставление дворянства и государства (правительства) во второй половине XVIII в., как это, например, пытается показать С.В. Польской, описывая борьбу правительственного и дворянского конституционализма [Польской, 2011]. Правительство, в значительной степени состоявшее из представителей дворянства, которые к этому времени воспринимали себя как дворяне и готовы были выступать от имени дворянства (см., напр.: [Киселев, 2009]), едва ли стоит противопоставлять дворянству. В результате существовавшей взаимосвязанности правительства и дворянства развитие дворянского сословного самосознания оказывалось важным фактором выбора направления государственного строительства в XVIII в.. Сословные представления самым непосредственным образом оказывали влияние на преобразования коронного аппарата управления. Более того, в результате этого влияния такие преобразования могли сопровождаться строительством органов дворянского самоуправления. Едва ли это стоит рассматривать в качестве слабости дворянского сословия. Скорее, это говорит о том месте, которое занимало дворянство в российском правительстве.
Для того чтобы показать такую неразделенность и взаимосвязь правительственной позиции и развития дворянского сословного самосознания, мы обратимся к проблеме введения дворянского самоуправления и взаимосвязанного с ним сословного выборного элемента в государственное управление в период, предшествующий изданию «Учреждений для управления губерний» в 1775 г.
В середине XVIII в. к вопросу о введении выборных дворянских элементов в коронный аппарат одним из первых обратился П.И. Шувалов, один из ключевых деятелей условного имперского правительства в 1750-е гг. В довольно обширном проекте реформ, представленном на рассмотрение Сенату в 1754 г., он, помимо прочего, предлагал создать в России институт земских комиссаров. По мнению Шувалова, «во всякой губернии надлежит быть генерал-губернии комисару, при нем в помощь по два обер-комисара, в правинциях по одному провинциал-комисару, в каждом же приписном городе по одному уездному комисару». Если «означенных генерал-губернии и обер-комисаров» следовало назначать Сенату, то провинциал-комиссаров и уездных комиссаров следовало «выбирать ис тамошняго лутчева дворянства достойных и честных людей, за выборами тех правинцей и уездов всех дворян». Если же дворянства в уезде не было, то их должен был назначать Сенат. Полномочия земских комиссаров были довольно скромны. Кроме управления специальными хлебными магазинами они выполняли в основном функции надзора. Так, в отношении коронной администрации они должны были смотреть, чтобы «обывателям от случившихся перепищиков … и протчих тому подобных людей, а особливо зборщиков подушных денег, сыщиков и валтмей-стеров … и от губернаторов, воевод и подьячих ни малейших обид, утеснения и приметок чинено не было, а паче взяток». При надзоре за населением им следовало смотреть, «чтоб подданные при всех случаях страху Божию и добродетели друг другу, а особливо правде и подданнической верности, обучены и наставлены были, также бы они и детей своих в помянутых добрых порятках воспитывали и, сколько возможно чтению и письму обучали. К тому ж никого до плутовства, кражи, обманов, богохуления и протчих богопротивных дел не допускали, дабы чрез то все погрешности искоренены, христианство же и добродетели произведены»3. Таким образом, полномочия земских комиссаров были довольно незначительны, и самое большее, что они могли себе позволить, – это писать жалобы в Сенат. Тем не менее шуваловские предложения в целом весьма показательны, так как они исходили от государственного деятеля, активно отстаивавшего благо государства [Андри- айнен, 2006; Андриайнен, 2011], и это благо для него вполне было сочетаемо с введением сословного дворянского выборного элемента в коронный аппарат управления. В то же время Шувалов не нашел возможным предложить создать собственно дворянские сословные органы.
Следующее предложение о введении элементов сословной выборности в коронный аппарат империи было связано с деятельностью Уложенной комиссии, учрежденной в 1754 г. Помимо прочего в комиссии шла работа над первой частью Уложения, посвященной организации судопроизводства. Первая глава этой части была названа «О разных в нашем Г[осу]д[а]рстве правителствах, и какия до которого правителства надлежат». В ее итоговом варианте, подготовленном первым составом комиссии к 1760 г., в пятой статье, было написано, что «по светскому правлению учреждены в городех воеводския правинциалныя и губернския канцелярии». Именно в этих коронных учреждениях должны были рассматриваться, за некоторыми исключениями, дела «по челобитьям разного чина духовных и мирских людей». При этом в статье не было предусмотрено появление каких-либо выборных должностей при данных канцеляриях4.
Однако в 1760 г. произошли существенные изменения: состав комиссии обновили, а ее руководителем был фактически назначен гр. Р.И. Воронцов. Такие изменения отразились и на содержательной части проекта Уложения [ Рубинштейн , 1951]. Так, 25 марта 1762 г. члены комиссии, находясь в доме Р.И. Воронцова, рассматривали первую главу первой части проекта Уложения. При обсуждении ее пятой статьи они постановили внести следующее дополнение: «Определить в помощь губернаторов и воевод депутатов тех городов от дворянства губернии по три человека, двух той губернии от правинци, а третьяго той губернии ж от всех правинцей, а в правинци тех же пра-винцей по два человека, а в воеводския ж городовыя по одному человеку с переменою погодно. И присудствовать по очереди ис тех депутатов по одному, как в губерниях, так и правинци, а иных магистратах токмо в тех городах, где кто в присудстви и от дворянства выбран»5. Как результат, еще в царствование Петра III в пятую статью первой главы первой части проекта Уложения была внесена следующая формулировка: «Во всех же тех губернских, правинцыалных и воеводских канцеляриях определять погодно с переменою за выбором тех городов от уездов дворянства депутатов, в губернские по три, в правинциалные по два, а в городовые воеводские канцелярии по одному человеку, и из них в губернских канцеляриях двум человекам быть за выбором одного губернского города уездных дворян, а третьему депутату быть за выбором всех той губернии и правинциалных уездов от дворянства, и, кроме оного, выбранного всей губернии от дворян, из достальных двух присудствовать как в губернских, так и в правинцыалных канцеляриях и в магистратах, пременяясь по одному человеку, всегда неотменно»6. Затем в результате редактирования данной статьи, в нее были внесены некоторые стилистические правки, из которых следует указать на следующую: понятие «депутаты» было заменено на выражение «уполномоченные от дворянства заседатели»7. При этом в статье не давалось пояснений функций и полномочий таких заседателей. Можно предположить, что они должны были осуществлять своеобразное наблюдение за деятельностью коронного аппарата управления от имени дворянских региональных сообществ.
Таким образом, члены второго состава Уложенной комиссии пошли дальше, чем П.И. Шувалов. Теперь при главных органах коронного управления – губернской, провинциальной и уездной канцеляриях – должны были быть выборные представители дворянства. Однако в конце царствования Петра III – начале царствования Екатерины II комиссия вновь вернулась к вопросу о содержании пятой статьи первой главы первой части проекта Уложения, и положение об «уполномоченных от дворянства заседателей» было вычеркнуто из проекта8. Возможно, что такое положение все же показалось излишне смелым. Уже при Екатерине II деятельность комиссии стала постепенно затухать, и к 1767 г. она прекратила свое существование. Ее проекты так и не были утверждены. Тем не менее для историков важен сам факт предложения о введении сословного дворянского выборного элемента в коронный аппарат управления. При этом, как показало само царствование Екатерины II, такие идеи не были забыты и получили развитие.
Накануне созыва новой Уложенной комиссии Екатериной II Р.И. Воронцов подготовил небольшой текст, который представлял собой своеобразный проект дворянской петиции. Вводную часть Воронцов решил посвятить описанию своеобразного исторического союза института монархии и дворянства в России. Он утверждал: «Сравнивая всех европейских держав истории с российскою, ни в которой не сыщется примеров, чтобы дворянство в других государствах имело такую верность к своим государям, какую российское всегда имело к своим монархом. Никакие внешние трудности, никакие опасности и никакия крайности не могли онаго отвлекать от польз и защище-ния священнейшия монархов своих особы. Никакия внутренныя прочих сортов людей волнения и заговоры не в состоянии были поколебать верности и ревности дворянства к своим государям. Всегда оное духом, мыслями и самым делом, не щадя своея крови и самой жизни стремилось к пользе, безопасности и к подкреплению их воли». Дворянство провозглашалось твердым фундаментом монархии в России. В то же время он указывал, что «счастие, благополучие и благосостояние дворянства укрепляется крепостию и неподвижностию монаршескаго престола». Признавая важность законов, он приходил к выводу, что «законы … и хранение оных составляют единственно то, в чем состоит благосостояние дворянства и удержание прочих людей в пределах тишины и повиновения». Таким образом, вполне можно считать, что для Воронцова идеалом государственного устройства была монархия, управляемая по законам, которые при этом оказывались социально ангажированными в пользу дворянства. Данный подход к «законной» монархии проявился в полной мере у Воронцова и при оценке созыва Екатериной II Уложенной комиссии: «Предпринятой ныне ею толикой труд в составлении новых законов хотя касается до всех частей государства и до каждаго состояния людей, но входя в существительную оны пользу и намерение ясно всякой увидеть может, что оные больше нужны к укреплению счастия нашего, к спокойному владению имением и к охранению прав дворянства». Исходя из этого, он полагал, что «для общаго всех дворян спокойствия кажется небесполезно представить всеподданнейшее от дворянства прошение о нижеследующих преимуществах»9.
Всего в петиции Воронцова было шесть пунктов. В первом он предлагал просить императрицу об уничтожении так называемых канцелярских сборов: «Все канцелярские сборы, как то мельничные, с рыбных ловель и банные, в дачах каждаго владельца, оставить в ползу владельцов, выключая из сего большие воды». Впрочем, он не забыл про доходы казны: вместо отмененных сборов Воронцов предлагал «учинить прибавку в подушном сборе, расположа по числу душ на все государство такую сумму, какая убудет отменою». По его мнению, такая операция в силу специфики организации канцелярских сборов была бы выгодна и казне, и владельцам10.
Однако уже во втором пункте он перешел собственно к «преимуществам» для дворянства, а именно к проекту организации сословного дворянского суда. По его мысли, императрице следовало «во всяком уезде дозволить иметь земской суд между дворянством, на которой аппеляцию иметь в одном Сенате или по крайней мере и по желанию обеих спорущих сторон в губернской канцелярии. В уездах же по станам учредить земских комисаров, которым разбирать споры между одним крестьянством»11.
Воронцов на этом не остановился, и в третьем пункте перешел к вопросам организации дворянских представительных органов: «Для разсуждения о камеральных и о других до пользы и выгод каждаго уезда касающихся делах в каждом уезде дозволить чрез каждые два года дворянству иметь уездной съезд, на котором иметь право выбирать дворянству из дворян же депутатов для отправления в Прав. Сенат с теми представлениями и нуждами, кои по общему того съезда присуд-ствующих мнения и разсуждения полезными и необходимо надобными признаны будут. Для сих съездов в каждом уезде в способном месте иметь дворянству дома, свободные от постоев и под гербами тех самых городов». Конечно, такое дворянское представительство должно было быть исключительно консультативным, не претендующим на какую-либо часть власти суверена. Однако сам факт наличия свидетельствовал об исключительном положении дворянства по отношению к остальным сословиям. Кроме того, в домах для дворянских съездов Воронцов считал необходимым «содержать списки всего дворянства, в которые вписывают всех новорожденных дворянских детей с тем, что из онаго можно было дать точное сведение о числе всего дворянства, старых и малолетных, с описанием каждого состояния и имущества, как скоро о том из какого вышняго правительства требование пришлется»12. Фактически это означало, что учет представителей дворянского сословия, возложенный в соответствии с петровским законодательством на коронные органы управления, переходил в руки дворянства, и такие дома должны были стать своеобразными органами сословного самоуправления. Следующие пункты затрагивали уже экономику дворянского сословия. Так, четвертый и пятый пункты были посвящены актуальным вопросам о хлебной торговле, а шестой – проблеме солдатских детей13.
Таким образом, Р.И. Воронцов счел возможным пойти дальше предложений Уложенной комиссии 1762 г. Помимо введения элементов дворянских выборов в коронный аппарат он предлагал создать и дворянские сословные органы. Дворяне, по его мнению, должны были получить постоянно действующие органы самоуправления, а также возможность представлять свои интересы перед верховной властью. Для Воронцова такая позиция вполне сочеталась с идеалом «законной» монархии и благом государства, которое переходило в благо российских монархов. При этом следует отметить, что появление политического проекта с таким содержанием было логичным результатом развития идей, которые циркулировали в России со второй половины XVII в. [Киселев, 2013, с. 36– 39, 46–48].
Как показал опыт Уложенной комиссии 1767–1768 гг., такие требования – введение выборных должностей в коронном аппарате управления, а также создание элементов дворянского самоуправления – были довольно распространены среди представителей дворянства [ Григорьев , 1910, с. 120–199; Белявский, 1960, с. 130–133]. В результате к 1770-м гг. во время подготовки новой губернской реформы Екатерина II пришла к выводу о необходимости введения в местный коронный аппарат выборных дворянских должностей, а также организации дворянского сословного самоуправления.
Как известно, Екатерина активно занималась законотворческой деятельностью и после нее осталось много материалов, представленных письмами, записками, черновыми работами и другими источниками, хранящимися в нескольких архивохранилищах Москвы и Петербурга14. Это и подготовительные материалы к «Учреждениям для управления губерний» (1775 г.) – главному нормативному документу реформы. «Учреждения» представляли собой довольно объемный документ, который состоял из двадцати восьми глав. Однако, как показывают черновые материалы, отложившиеся в фонде 10 «Кабинет Екатерины II» Российского государственного архива древних актов, итоговый вариант этого законодательного акта должен был содержать как минимум тридцать глав, в том числе главу XXX «О Собрании дворян, и составлении дворянского общества в намест-ничестве»15.
По замыслу Екатерины, эта глава должна была открываться специальной мотивировочной частью, в которой бы описывались исторические взаимоотношения российской монархии и дворянства. Соответствующий проект преамбулы с ее личными правками также сохранился в фонде 10. Исходя из фразы «таково есть существенное состояние Российской империи в сем знаменитом столетии в коем истекает и настоящий 1775 год»16, проект можно датировать 1775 г. Важно отметить, что этот проект станет основной мотивировочной частью Жалованной грамоты дворянству 1785 г. Сравнивая проект и мотивировочную часть грамоты 1785 г., можно говорить об их практически полной идентичности за исключением некоторых моментов. Например, в проекте при перечислении орденов не упомянут орден святого равноапостольного князя Владимира, так как он был учрежден в 1782 г.
Если говорить о подготовительных материалах к нормативной части ХХХ главы, то они уступали преамбуле по степени готовности. Они представляли собой наброски основных положений, которые должны были быть закреплены в главе XXX. Прежде всего следовало закрепить сам право дворян наместничества на собрания и то, что дворяне наместничества составляют «дворянское общество в каждом наместничестве, с ниже изображенными правами, выгодами, отличностя-ми, преимуществами»17. Затем шли нормы, касающиеся организации дворянства и дворянского самоуправления. Предполагалось раз в три года в зимнее время собирать съезды дворянства наместничества по созыву государева наместника для выбора предводителей дворянства как для уездов, так и для всего наместничества. В каждом наместничестве было необходимо завести списки «всем дворянским фамилиям», в которых бы указывались данные об имущественном и служебном положении дворян. По результатам составления подобных списков должны были быть созданы четыре «Разрядных списка» наместничества. В первый список следовало записать «все знатные и особыми титулами отличенные фамилии и домы, то есть Князей, Графов и Баронов». В остальных трех списках, предназначенных для нетитулованного дворянства, семьи распределялись в соответствии с имущественным цензом. Без заключения в эти списки нельзя было не только участвовать в дворянском самоуправлении, но и приобретать «деревни, поместья или вотчины». В результате официально закреплялось монопольное право дворян владеть землями с живущими на них крепостными. Глава должна была завершаться нормами о выборе дворянами должностных лиц в органы местного коронного аппарата. При этом пояснялось, что такие «милости и доверенности» давались дворянству «вовеки»18.
Таким образом, по первоначальному замыслу Екатерины II право дворян на самоуправление и основные нормы, которые регулировали его, должны были быть включены в «Учреждения для управления губерний», т.е за десять лет до издания Жалованной грамоты дворянству. Реформа местного коронного аппарата оказывалась переплетенной с формированием сословных органов дворянского самоуправления. Собственно отправление государственной власти на местах официально признавалось правом и обязанностью дворянской корпорации. При этом предусматривавшиеся нормы были вполне в русле дворянских предложений, а не некоей произвольной инициативой абсолютного монарха. Конечно, в утвержденный текст Учреждений XXX глава по каким-то причинам не была включена в отличие от норм, касавшихся выбора дворянами должностных лиц в органы местного коронного аппарата. Однако это не было отступлением от продворянского курса в сторону, например, курса бюрократического. Это было связано скорее всего с тем, что Екатерина II пришла к выводу о необходимости создания отдельного законодательного акта, в котором бы фиксировались права и обязанности российского дворянства. В пользу этого говорит тот факт, что вскоре после утверждения «Учреждений для управления губерний» (7 ноября 1775 г.) в феврале 1776 г., императрица, как показал А.Н. Филиппов [ Филиппов, 1926; Каменский, 1982, с. 166–169], обратилась к исследованию дворянского законодательства. Итогом такой работы стало издание в 1785 г. Жалованной грамоты дворянству, в которой и были прописаны на законодательном уровне механизмы дворянского самоуправления.
Список литературы Проблема организации дворянского самоуправления и подготовка «учреждений для управления губерний» в 1775 году
- Андриайнен С.В. «Изобретение всеобщего добра»: идеологические основания деятельности графа П.И. Шувалова (1710-1762)//Ист. понятия и полит. идеи в России XVI-XX в. СПб., 2006
- Андриайнен С.В. Империя проектов: государственная деятельность П.И. Шувалова. СПб., 2011
- Белявский М.Т. Требования дворян и перестройка органов управления и суда на местах в 1775 г.//Науч. докл. высшей школы. Ист. науки. 1960. № 4
- Бикбов А. Бурдье/Хайдеггер: контекст прочтения//Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М., 2003
- Бурдье П. Начала: Choses dites. М., 1994
- Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. М.; Л., 1941. Т. 2
- Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II (Учреждение о губерниях 7 ноября 1775 г.). СПб., 1910
- Дитятин И.И. К истории «жалованных грамот» дворянству и городам 1785 г.//Рус. мысль. 1885. Кн. 5
- Каменский А.Б. История создания и публикации книги Г.-Ф. Миллера «Известие о дворянах российских»//Археогр. ежегодник за 1981 г. М., 1982
- Киселев М.А. Казус Д.В. Волкова: «Подьячие» на вершинах власти в Российской империи XVIII в.//Уральский ист. вестник. 2012. № 3
- Киселев М.А. Проблема прав и обязанностей российского дворянства в Уложенной комиссии на рубеже 1750-х и 1760-х гг.: к истории Манифеста о вольности дворянской//Уральский ист. вестник. 2013. № 3 (40)
- Киселев М.А. Сословная риторика как аргумент: эпизод из истории создания Устава о винокурении 1765 г.//Урал. ист. вестник. 2009. № 2 (23)
- Киселев М.А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII -первой четверти XVIII в.//Ист. вестник. 2013. Т. 6 (153)
- Павлова-Сильванская М.П. «Учреждение о губерниях» 1775 года и его классовая сущность: дис.... канд. ист. наук. М., 1964
- Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII в.: Эволюция бюрократической системы. М., 2007
- Польской С.В. Дворянский конституционализм в России XVIII -начала XIX в.//Вопр. истории. 2011. № 6
- Пэнто Л. Государство и социальные науки//Социология под вопросом: Социальные науки в постструктуралистской перспективе. М., 2005
- Рубинштейн Н.Л. Уложенная комиссия 1754-1766 гг. и ее проект нового Уложения «О состоянии подданных вообще» (К истории социальной политики 50-х -начала 60-х гг. XVIII в.)//Ист. записки. М., 1951. Т. 38
- Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке (формирование бюрократии). М., 1974
- Филиппов А.Н. К вопросу о первоисточниках Жалованной Грамоты дворянству 21 апреля 1785 г. Ч. 1//Изв. АН СССР. 1926. Сер.6, т. 20, № 5-6
- Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного сословия, XVII -первая треть XIX в. М., 2002
- Le Donne J.P. The eighteenth-century Russian nobility: Bureaucracy or ruling class?//Cahiers du Monde russe et sovietique. 1993.. Vol. 34 (1-2), janvier-juin
- Leonard C.S. Reform and Regicide: the Reign of Peter III of Russia. Bloomington, 1993 L'invention de la decentralisation. Noblesse et pouvoirs intermediates en France et en Europe XVIIXIXe siecles/eds. M.-L. Legay, R. Baury. Lille, 2009