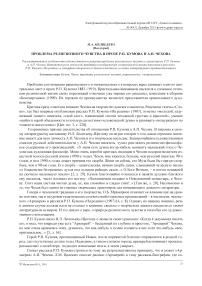Проблема религиозного чувства в прозе Р.П. Кумова и А.П. Чехова
Автор: Медведева Мария Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности художественного решения проблемы религиозного чувства у героев прозы Р.П. Кумова и А.П. Чехова. Выявляется роль чеховской традиции в изображении эмоциональной жизни персонажа рассказа Р.П. Кумова «На родине» и специфика творческого диалога писателя со своим литературным предшественником.
Кумов, чехов, традиция, религиозное чувство, рациональное, эмоциональное
Короткий адрес: https://sciup.org/14822422
IDR: 14822422
Текст научной статьи Проблема религиозного чувства в прозе Р.П. Кумова и А.П. Чехова
Проблема соотношения рационального и эмоционального в вопросах веры занимает одно из центральных мест в прозе Р.П. Кумова (1883–1919). Пристальным вниманием писателя к сложным оттенкам религиозной жизни своих персонажей отмечены уже первые его рассказы, вошедшие в сборник «Бессмертники» (1909). Их героями по преимуществу являются представители православного духовенства.
Критика сразу отметила влияние Чехова на творчество донского писателя. Рецензент газеты «Слово», где был впервые опубликован рассказ Р.П. Кумова «На родине» (1907), отметил «молодой, задушевный талант» писателя, «свой слог», пленяющий «почти чеховской грустью и красотой», умение «найти в серой обыденности золотые руды истинно человеческой души» и развивать «незаурядную по тонкости психологию» [Цит. по: 3, с. 228].
Сохранились прямые свидетельства об отношении Р.П. Кумова к А.П. Чехову. В письмах к своему литературному наставнику И.Л. Леонтьеву-Щеглову он не раз говорит о том, какое огромное значение имеют для него личность А.П. Чехова и его творческое наследие. За широчайшим художественным охватом русской действительности у А.П. Чехова писатель сумел разглядеть религиозно-философское содержание его произведений: «У меня есть думка когда-нибудь написать маленький этюд о Чехове как художнике-философе. Меня очень коробят критики, видящие в Чехове воспроизводителя известной полосы русской жизни (1990-е годы). Чехов, мне кажется, больше, чем русский писатель 90-х годов, и не в 1990-х годах лежит причина его скорби. Живи он сейчас, его Муза была бы гораздо скорбнее, чем в 90-ые годы. Его скорбь – евангельская, вечная скорбь души, слышавшей чудесную песню «о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов...» О Боге Вечном, – и потом попавшей на скучную маленькую землю» [5, л. 29]. Кумов благоговейно относился к памяти духовно близкого ему писателя, часто посещал его могилу: «Паломничали недавно в Новодевичий монастырь, к Чехову. Спит наша светлая чистая душа, ах, как спокойно и сладко спит!..» [Там же, л. 20]. Несомненно и то, что Чехов был одним из главных творческих ориентиров для начинающего донского литератора.
Говоря о чеховской традиции в его творчестве, О.Б. Мраморнов отмечает ее влияние как на уровне поэтики, так и на уровне тематических соответствий отдельных произведений – в частности, чеховского «Архиерея» и рассказа Р.П. Кумова «На родине» (1907) [4, с. 8]. Однако, по нашему мнению, речь в данном случае должна идти не столько о влиянии, сколько о творческом диалоге писателя со своим литературным кумиром. И это диалог о вере, о природе религиозного чувства и способах его художественного воплощения.
Р.П. Кумов писал И.Л. Леонтьеву-Щеглову о замысле своего рассказа: «Когда я задумывал писать его, я знал, что впереди уже есть “Архиерей” – бесценный по глубине и простоте, “Архиерей” Чехова, но мне очень нравилась тема, думалось, что как-нибудь я сумею вложить в нее хотя что-нибудь свое, оригинальное...» [5, л. 16].
Герой Р.П. Кумова, преосвященный Иоанн, после пережитой болезни отправляется в родной город, где отсутствовал долгие годы. На родине, в тихом степном городе, архиерей вспоминает прошлое, размышляет о своей вере, подводит жизненные итоги, а затем умирает.
Сюжет рассказа Р.П. Кумова строится по тому же ретроспективному принципу, что и сюжет «Архиерея» А.П. Чехова. Л.М. Цилевич относит рассказ «Архиерей» к типу рассказа-биографии, где со- знанию героя в преддверии смерти открывается «непрожитость» жизни. Это открытие, прозрение, составляет основное сюжетообразующие событие, от которого – ретроспективно-субъективированно – и развертывается история жизни, биография героя [См.: 10, с. 101]. Такое же прозрение наступает у героя рассказа Р.П. Кумова после болезни: И как-то вдруг бросилось в глаза то, чего не замечал раньше: его одиночество, сиротство среди других людей, архиерею захотелось покоя, ласки, тихой песенки над постелью, а кругом были грубые, чужие, льстивые люди, которые служили ему по обязанности, а в душе боялись его [4, с. 137].
Духовное прозрение обоих героев можно соотнести с размышлениями русских религиозных мыслителей о законах «сердечной» жизни человека. В восточном христианстве именно сердце принято считать горнилом нравственной жизни, в сердце соединяются все нравственные состояния человека, в том числе «высочайшая и таинственная любовь к Богу» [11, с. 70]. По определению другого мыслителя, сердце – духовный центр человеческой личности, предельная глубина человека. Она закрыта не только для других, она непостижима в значительной степени и для него самого. Заглянуть в центр своей личности удается немногим, и это, прежде всего, переживается как чувство глубочайшего изумления, как бы нового духовного рождения или исцеления от прирожденной слепоты [1, с. 63].
Болезнь и предчувствие скорой смерти заставляют героев Чехова и Кумова заглянуть в свое сердце и задуматься о смысле прожитой жизни, о глубине и сердечности своей веры . «Архиерей» А.П. Чехова, по мнению Л.М. Цилевича, – это рассказ о несостоявшейся жизни [10, с. 101]. Преосвященный Петр так размышляет о прожитой жизни: Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного [8, с. 195]. Чеховский герой замечает, что все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось [Там же, с. 193].
Подводит итоги прожитой жизни и вернувшийся на родину герой Р.П. Кумова: « Как безрезультатно, нудно прожита жизнь!.. Какие грезы, какие чудесные грезы вставали раньше при мысли, что он будет честным, живым деятелем в родной стороне, и что же оказалось, что же оказалось!..» [4, с. 149]. Но жизнь ушла незаметно, просочилась сквозь пальцы. И архиерей не может ответить на вопрос, « куда это ушла его жизнь?» [Там же, с. 145].
Следует обратить внимание на то, как в рассматриваемых нами рассказах решается проблема религиозного чувства героев. А. Ранчин полагает, что герой чеховского рассказа сомневается в своей вере [6]. Действительно, преосвященный Петр вдруг осознает, что утратил ту искреннюю веру в Бога, которую имел в детские годы, когда « ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно» [8, с. 189]. Теперь же, как ему кажется, « весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о боге» [8, с. 194]. Кроме того, герой не имеет ни душевного успокоения, ни подлинного христианского отношения к смерти: он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще не доставало, не хотелось умирать [Там же, с. 195].
Проблема сердечности религиозного чувства, обозначенная А.П. Чеховым, детально разрабатывается в рассказе Р.П. Кумова. Тоска по искренней детской вере у героя последнего еще более мучительна, чем у чеховского героя: он, старый и важный, томился по далекой детской наивной молитве, по вере – простой и ясной, которую он, сам не замечая того, подменил в жизни нелепой и бездушной декорацией... Но веры не было, не было огонька любви, восторга, и он уходил из церкви в смятении и печали... [4, с. 146]. Молясь в церкви, преосвященный Иоанн вдруг чувствует, что «уже не было в груди сладкого томления, а глаза не горели огоньком молитвы <…> молитва складывалась какая-то важная, напыщенная, но сухая и мучительная» [Там же].
Однако преосвященный Иоанн не утратил веры в Бога. Причина душевной неуспокоенности героя, на наш взгляд, кроется в том, что его вера и, следовательно, молитва стала «головной», идущей не от сердца, а от разума, тогда как в христианской традиции основным органом религиозных переживаний признается сердце. Религиозный мыслитель Б.П. Вышеславцев отмечает также, что в восточном христианстве «умственное размышление о Боге не есть подлинное религиозное восприятие» [1, с. 6869].
По наблюдению В.И. Тюпы, в рассказе «Архиерей» первостепенную роль играет конфликт между социальной ролью человека и его личностью. Несмыкаемость внешне-ролевого и внутренне-личностного приходит извне, навязывается другими [7, с. 86-88]. Герой рассказа тяготится тем, что « За все время, пока он здесь, ни один человек не говорил с ним искренне, попросту, по-человечески» [8, с. 194]; даже « нежная и чуткая» в его детстве мать перед ним теперь « как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью» [Там же, с. 191]. Лишь когда преосвященного Петра настигла смертельная болезнь, она забывает о его сане, называя умирающего сына личным именем: « – Павлуша, голубчик, – заговорила она, – родной мой!.. Сыночек мой!..» [Там же, с. 200].
Р.П. Кумов же на время освобождает своего героя от его социальной роли: « За это время жители городка уже успели привыкнуть к нему <...> Он стал обыкновенным человеком, и это было хорошо – после всяких официальностей и торжеств, окружающих всю его архиерейскую жизнь... Он пользовался свободой, чудесной свободой человека, на которого никто не смотрит» [4, с. 147].
Важное место в обоих рассказах занимают предсмертные видения героев, являющиеся ключевыми для понимания религиозной проблематики произведений. Б.П. Вышеславцев, размышляя о законах «сердечной» жизни с точки зрения религиозной философии, отмечает, что сердце человеческое имеет око, которое способно увидеть и осознать истину: «в жизни временной это око иногда закрывается, омрачается, слепнет <…> Око должно раскрыться; перед лицом вечности оно прозреет» [1, с. 75-76]. Именно таким прозрением перед лицом вечности становятся предсмертные видения обоих героев.
А.П. Чудаков заметил, что их описания у А.П. Чехова насыщены бытовыми деталями [9, с. 170]. Но в рассказе «Архиерей» эти детали имеют не столько обыденный, сколько поэтический характер. Преосвященному Петру представляется, что он уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно! [8, с. 200]. Значимо и то, что герой писателя умирает накануне Пасхи. Исследователи по-разному трактуют эту деталь. А. Ранчин утверждает, что смерть архиерея – не духовное Воскресение, а освобождение через смерть, выход за пределы круга жизни и прощание с тяготившим земным прошлым [6]. По мнению М.М. Дунаева, преосвященный Петр перед лицом смерти, в минуты, когда он кажется себе самому умаленным перед всеми людьми, обретает в христианском смирении подлинное счастье покоя [2]. Однако прямой религиозной интерпретации смерти героя у Чехова нет.
Если для чеховского архиерея смерть – освобождение от тяготившей его социальной роли, то архиерей Р.П. Кумова, побыв «обыкновенным человеком», в предсмертном видении возвращается к своему пастырскому назначению. Он видит Христа и ведет за собой народ « на какую-то высокую гору, которая светится вдали, как звезда» . Евангельской символикой насыщено видение архиереем своей смерти. Ему, как и чеховскому герою, представляется поле. Но это иное, «сухое, жаркое поле», на котором «Стоят желтые колосья и тихо шуршат, словно шепчут, и один колосок – он сам – стоит в степи, желтый, как золото, и покачивает задумчиво головкой <...> а косы уже идут <...> и желтые золотые колоски падают рядами» [4, с. 154]. Пшеница – устойчивый символ человека в евангелии (ср. «...соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Лук. 3:17), прообраз его будущего воскресения. С евангельской символикой связано и время смерти архиерея – конец июня, время жатвы.
Таким образом, обращаясь к проблеме религиозного чувства, поставленной его литературным предшественником, Р.П. Кумов вступает с ним в творческий диалог. В разработке сюжетной ситуации он во многом следует за А.П. Чеховым. Однако его интерпретация темы носит иной характер. Чеховский герой даже перед лицом смерти не может вернуть себе живую, сердечную веру. Высокий духовный сан сковывает его чувства, отдаляет и от окружающих людей, и от Бога. Для героя Р.П. Кумова, напротив, религиозное чувство неразрывно связано с его пастырским служением.
Список литературы Проблема религиозного чувства в прозе Р.П. Кумова и А.П. Чехова
- Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индийской мистике//Вопросы философии. 1994. № 4. С. 55-87.
- Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII-XX веках. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. . URL: http://www.mpda.ru/data/268/629/1234/Vera%20v%20gornile%20smneniy.pdf (дата обращения 10.10.2015).
- Заяц А.А. Кумов Р.П.//Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 1994. Т. 3. С. 227-229.
- Кумов Р. П. Избранное/сост. В.И. Супрун. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2008.
- Кумов Р.П. Письма И.Л. Леонтьеву-Щеглову//ИРЛИ, ф. 150, д. № 866.
- Ранчин А. Просто люди: священнослужители в произведениях А.П. Чехова//Литература. 1997. №28. С. 34-41. . URL: http://www.portal-slovo.ru/rus/philology/258/421/11912/
- Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высш. шк., 1989.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Т. X. М.: Наука: 1977.
- Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М.: Советский писатель, 1986.
- Цилевич Л.М. Сюжет чеховского рассказа. Рига: Изд-во «Звайгзне», 1976.
- Юркевич П.Д. Философские произведения. Москва: Изд-во «Правда», 1990. С. 69-103.