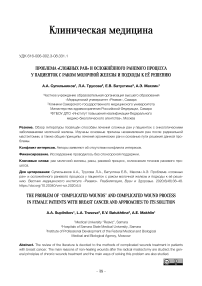Проблема "сложных ран" и осложнённого раневого процесса у пациенток с раком молочной железы и подходы к её решению
Автор: Супильников А.А., Трусова Л.А., Батухтина Е.В., Махлин А.Э.
Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz
Рубрика: Клиническая медицина
Статья в выпуске: 6 (48), 2020 года.
Бесплатный доступ
Обзор литературы посвящён способам лечения сложных ран у пациенток с онкологическими заболеваниями молочной железы. Изучены основные причины незаживления ран после радикальной мастэктомии, а также общие принципы лечения хронических ран и основные пути решения данной проблемы.
Рак молочной железы, раны, раневой процесс, осложнения течения раневого процесса
Короткий адрес: https://sciup.org/143176779
IDR: 143176779 | УДК: 616-006-002.3-08.331.1 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2020.6.5
Текст научной статьи Проблема "сложных ран" и осложнённого раневого процесса у пациенток с раком молочной железы и подходы к её решению
В настоящее время рак молочной железы (РМЖ) является одним из частых онкологических заболеваний среди женщин. Так, в 2018 г. в мире зарегистрировано более 2 миллионов новых случаев рака молочной железы, что составляет 11,6 % от всех новых случаев онкологических заболеваний, диагностированных в этом году [1]. В этом же году около 600 000 пациенток погибли от РМЖ. Это составило 6 % всех смертей, связанных с онкологическими заболеваниями, и выдвинуло рак молочной железы на второе место по смертности среди всех злокачественных заболеваний. В настоящее время 2/3 пациенток с диагнозом РМЖ подвергаются хирургическому лечению в объёме радикальной мастэктомии в сочетании с лучевой терапией, остальным пациенткам выполняется мастэктомия ввиду большого размера опухоли (> 4 см в диаметре), мультифокального роста и предшествующая лучевая терапия [3]. Несмотря на успехи в лечении рака молочной железы, хирургический метод является краеугольным камнем для пациенток с данной нозологией на ранних стадиях и обеспечивает большие шансы на выздоровление. К сожалению, любое оперативное вмешательство ведет за собой развитие осложнений в виде гематомы, серомы, инфекции, некроза лоскута. Все перечисленные осложнения не являются редкостью и могут привести к затруднению заживления послеоперационных ран у этих пациенток, что ведет за собой повторное оперативное вмешательство, увеличение времени пребывания пациенток в стационаре и психологического дискомфорта.
Цель исследования
В данном обзоре рассмотрены основные осложнения заживления ран у пациенток после радикальной мастэктомии (РМЭ) с возможной реконструкцией, а также существующие на данный момент решение проблемы.
Материалы и методы
Изучены оригинальные статьи, протоколы клинических испытаний, систематические обзоры о вопросах, касающихся течения раневого процесса, у пациенток с РМЖ за период с 2015 г. по 2020 г. Данный обзор литературы основан на 83 ретроспективных анализах литературы. Рассмотрены возможные причины развития хронических ран у пациенток с раком молочной железы и варианты их лечения.
Результаты
Образование серомы является наиболее частым послеоперационным осложнением, наблюдаемым после мастэктомии с частотой от 3 % до 85 %. Наличие серомы требует послеоперационного вмешательства для устранения данного осложнения [4]. Вопрос о применении электрокоагуляции и развития серомы изучался рядом авторов, выдвинувших большое количество догадок по этому вопросу [5–7]. Одни отмечали роль тромбозов подкожных сосудов, вызванных коагуляцией, другие считали причиной процессы, происходящие в подкожно-жировой клетчатке. Решением при наличии данного осложнения является удаление эссудата при помощи тонкоигольной аспирации. В противном случае это приведёт к расслоению имеющейся раны и при- соединению инфекции [8]. Сравнивали применение обычной электрокоагуляции и устройство PEAK PlasmaBlade у пациенток с РМЖ. В ходе этого исследования пациентки были разделены на 2 группы. Одой группе применялась стандартная электро-кагуляция во время операции, а второй группе – PEAK PlasmaBlade. Пациентки двух групп были равны по возрасту и сопутствующим заболеваниям, данные особенности не учитывались в исследовании. Пациенткам обеих групп выполнялась стандартная РМЭ с лимфодиссекцией, при необходимости выполнялись реконструктивные операции. В ходе иcследования были получены следующие результаты: у 2-х пациенток из 20 (10 %) из группы с применением нового устройства во время операции, против 15-ти из 40 (37,5 %) в группе пациенток с применением традиционной электрокоагуляции, появилось осложнение в виде серо-мы. Другие осложнения ран встречались с незначительной разницей у пациенток из обеих групп. Инфекция послеоперационной раны встречалась с одинаковой частотой между 2-мя исследуемыми группами. Был сделан вывод о перспективном применении нового устройства, но сложность применения заключается в дороговизне данного аппарата [8].
Лучевая терапия уже длительное время является эффективным способом лечения злокачественных новообразований, приводящим к изменению регенерации в тканях, которые подвергаются облучению [9]. Наиболее часто встречающиеся проблемы облучаемой ткани – дерматиты и язвы, которые трудно излечить из-за снижения кровоснабжения, фиброза ткани. Этот вид лечения связан с высоким риском неза-живления послеоперационных ран у пациентов, что требует повторного оперативного вмешательства [10]. Причина незажив-ления радиационно-индуцированных ран – снижение процесса образования новых кровеносных сосудов и стойковысоких концентраций матриксных металлопротеиназ. Причиной ранней хронизации подоб- ных ран является молекулярная среда в хронических ранах, враждебная для репликации клеток после травмы. Отсутствие сокращения, вызванное замедленной функцией миофибробластов, и повторное присоединение инфекции раны также являются факторами, не способствующими улучшению заживления ран [10]. Обычные послеоперационные раны заживают при адекватном местном лечении. Процесс заживления ран после лучевой терапии будет замедлен из-за лежащей в основе ишемии, инфекции и снижения жизнеспособности грануляционной ткани, вызванные замедленной функцией миофибробластов и присоединением вторичной инфекции [11].
Для пациенток с РМЖ развитие иммуносупрессии, вызванной онкологическим новообразованием и химиотерапией, снижает заживление ран не смотря на базисный уход за раной. Были проведены исследования, касающиеся вопроса изменений иммунной системы у пациенток с РМЖ, для выбора тактики иммунокоррекции. При развитии опухолевого процесса более выражено снижение иммунологической активности Т-клеток (РБТЛ ФГА), чем В-клеток (РБТЛ ЛПС). Отмечается снижение процента фагоцитоза с 60 % до 48,7 % при III стадии РМЖ. Индекс фагоцитоза снизился на 26,4 % при III стадии РМЖ. При изучении гуморального иммунитета отмечается уменьшение количества Ig A в периферической крови до 1,55 ± 0,38 г/л при III стадии РМЖ, увеличение количества IgG до 23,16 ± 6,1 г/л при фиброаденоме и РМЖ (р > 0,05) [11].
После хирургического иссечения опухолевого очага у пациенток наблюдается склонность к стабилизации иммунологических показателей, что подтверждает опухолеассоциированный характер. В первую очередь увеличивается количество цитотоксических клеток (на 8 %), а также стремление к нормализации измененного новообразованием дисбаланса иммунитета, с увеличением иммунорегуляторного индекса супрессии до 1,38 ± 0,11. Несмотря на стремление урегулирования иммунных показаний, нормы они не достигают, что также является одной из причин развития у пациенток с РМЖ хронических ран. Женщинам выполнялась мастэктомия и последующая химиотерапия и/или лучевая терапия с последующей дополнительной реконструкции груди после завершения адъювантного лечения, что приводило к замедлению заживления послеоперационных ран. В центре исследования рака Хелен Диллер (Сан-Франциско, США) [12] проводилось исследование для определения, влияния химиотерапии на частоту послеоперационных осложнений (расслоение ран в частности) после мастэктомии и одномоментной реконструктивной операции на груди. В исследовании были изучены 163 пациентки, которым была выполнена мастэктомия и одномоментная реконструкция молочной железы. Из этих пациенток 57 получали неоадъювантную химиотерапию и 41 пациентка – послеоперационную химиотерапию, а остальные 65 не получали никакую системную терапию. Большинство пациенток, как в группе неоадъювантной, так и в группе адъювантной химиотерапии, получали стандартную химиотерапевтическую терапию, состоящую из доксорубицина гидрохлорида/циклофосфамида с последующим введением паклитаксела, включая 91 % пациенток в группе неоадъювантной химиотерапии и 67 % в группе адъювантной химиотерапии. Дополнительно получали последующую терапию трастузумабом 21 % пациенток в группе неоадъювантной химиотерапии и 17 % пациенток в группе адъювантной химиотерапии. Адъювантная химиотерапия была начата через 4–6 недель после мастэктомии и немедленной реконструкции, чтобы дать достаточное время для восстановления тканей. В большинстве случаев была выполнена мастэктомия по поводу рака груди, некоторым пациенткам была выполнена одновременная профилактическая контралатеральная мастэктомия. Хирургические методы включали тотальную мастэктомию с со- хранением кожи и сохранением ареол сосков, мастэктомию с сохранением кожи и простую мастэктомию. У 66 % пациенток выполнена немедленная реконструкция с установкой эспандера для расширения ткани с последующей заменой имплантата или первоначальной установкой имплантата, в то время как у остальных была аутологическая реконструкция. Чаще использовали реконструкции поперечной прямой мышцы живота среди пациенток, которым была проведена неоадъювантная химиотерапия, со сравнимыми показателями реконструкции поперечной прямой мышцы живота между группами адъювантной и отсутствующей химиотерапией.
Послеоперационные осложнения включали инфекции раны, незапланированные повторные операции, а также расслоение тканей или потерю имплантата. Наиболее частым показанием к интраоперационному вмешательству было удаление имплантата или его замена. У 21 % пациенток, перенесших реконструкцию, была потеря имплантата. Скорость потери имплантата достоверно не различалась между группами. 59 % пациенток, проходящих неоадъювантную химиотерапию, прошли послеоперационную лучевую терапию, по сравнению с 36 % пациентками, получавшими адъювантную химиотерапию. В группе неоадъювантной химиотерапии, потери имплантатов были не высокими, чем у других групп. У остальных пациенток показания к незапланированному хирургическому вмешательству включали пластику вентральной грыжи у пациенток, которые ранее перенесли реконструкцию лоскута поперечной прямой мышцы живота (три пациента в группе неоадъювантной химиотерапии, один в группе адъювантной химиотерапии и четыре в группе, не получавшей химиотерапию), перфорации тонкой кишки (одна пациентка), липэктомии и местной перестройки тканей у одной пациентки с потерей лоскута из-за венозной тромбоэмболии. Анализ пациенток в группе адъювантной химиотерапии показал, что у девяти из них развились осложнения до начала послеоперационной химиотерапии, что, вероятно, отсрочило начало адъювантной терапии. У этих девяти пациенток были инфекции области послеоперационной раны, требующие пероральной или внутривенной антибакте- риальной терапии. У шести из этих пациенток произошло незапланированное повторное оперативное вмешательство из-за инфекционных осложнений, у пяти из них были удалены имплантаты. Наблюдаемые осложнения можно изучить в таблице 1 [12].
Таблица 1. Осложнения исследуемых пациентов [12]
|
Осложнения |
Химиотерапия не применялась (n = 61) |
Неоадъювантная химиотерапия (n = 57) |
Адъювантаная химиотерапия (n = 41) |
|
Инфекция |
25 |
23 |
41 |
|
Некроз кожи |
9 |
16 |
15 |
|
Гематома |
2 |
9 |
0 |
|
Потеря имплантата |
18 |
26 |
22 |
|
Серома донорского участка лоскута |
10 |
0 |
0 |
|
Потеря лоскута |
0 |
4 |
0 |
Учитывая влияние химиотерапии на заживление ран, продемонстрированное в исследовании, можно сделать вывод, что введение неоадъювантной химиотерапии с последующим размещением эспандера для расширения ткани или давление на кожные лоскуты со стороны объема аутологической реконструкции может увеличить частоту случаев развития расслоения послеоперационных ран. Результативных различий в этих группах не было. Длительность проведения химиотерапии в отношении раневого процесса после мастэктомии и одномоментной реконструкции груди не имеет значения. Женщинам, которым необходимо выполнить мастэктомию и одномоментную реконструкцию, неоадъювантная химиотерапия является безопасным способом лечения, который, в свою очередь, не увеличивает частоты послеоперационных осложнений. Системная химиотерапия провоцирует увеличение развития осложнений, связанных с раневым процессом у пациенток с РМЖ. Исследование подтверждает, что риск неинфекционных послеоперационных осложнений не увеличивается после РМЭ и одномоментной реконструкции груди у женщин, получающих химиотерапию.
плантата после мастэктомии в настоящее время является наиболее распространенным методом реконструкции груди в США и России. Была предложена техника стабилизации лоскута при мастэктомии с усиленным натяжением при помощи биоразлагаемого устройства с зазубринами. Устройства с колючей лентой классически используются в процедурах подтяжки бровей и других процедурах, требующих закрепления мягких тканей. Они состоят из полимо-лочно-гликолевой кислоты, рассасываются и очень эластичны. Наклонные зазубрины захватывают ткань, не охватывая потенциальную сосудистую сеть. Хотя это устройство специально не предназначено для предотвращения серомы, зазубрины устройства ориентированы так, чтобы противодействовать силам гравитации и предотвращать движение лоскута лба. При подтяжке бровей образуется шрам, поскольку колючая лента впитывается, и мгновенный оперативный результат сохраняется на долгое время. Авторы предложили применять устройство для снижения натяжения лоскута при реконструктивных операциях после мастэктомий с целью стабилизации лоскута и профилактики развития серомы и расслоения раны. Они предполагали, что серома и расслоение тканей уменьшится, если лоскуты будут максимально фиксированы после мастэктомии с применением бесклеточного дермального матрикса. Колючая лента позволяет исключить ишемии и сморщивания тканей, связанных с наложением швов, что приведет к улучшение эстетического вида. Врач хирург-онколог выполняет мастэктомию по базисной вертикальной технике. Реконструкция выполняется с помощью эспандера, помещенного под стропу бесклеточного дермального матрикса, закрепленную на грудной стенке и грудной мышце. Для каждой груди использовалось по два бесклеточного дермального матрикса, которые разрезают пополам, две части направлены для стабилизации медиальной части лоскута после мастэктомии, а две дугие – для боковой части. Устройства располагаются на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга в поперечном направлении и пришиваются к матриксу. Зубцы четырех матриксов обращены к срединной сагиттальной оси соответствующей груди, чтобы предотвратить перемещение лоскута из желаемого положения на бесклеточный дермальный матрикс. Как только матриксы находятся на месте, края лоскута для мастэктомии доводятся до средней линии, а глубокому слою дают возможность осесть на зубцы. Такая конструкция позволяет хирургу позиционировать (и репозициониро-вать) весь лоскут после мастэктомии одним движением. Затем лоскуты при необходимости перерисовывают, пока не будет достигнут желаемый контур и положение рубца. Перед наложением каких-либо швов лоскуты прикрепляют к матриксу с постепенным натяжением. Чтобы обеспечить достаточное восстановление мягких тканей и созревание рубца до замены имплантата требуется не менее 3 месяцев. Реконструкция после мастэктомии с применением бесклеточного дермального матрикса снижает развитие серомы после операции и необходимость в закрытых аспирационных дренажах. Данное новое техническое исполнение предназначено для стабилизации лоскута после мастэктомии. Частота некроза и ишемии лоскута после мастэктомии не отличается от контрольных групп [13]. Еще одной из причин снижения заживления ран у пациенток с раком молочной железы является рН раны, которое снижается от значений рН в диапазоне (около рН 8–8,5), до значений рН равной (5,5–6) [14]. Однако, если рН остается на высоком уровне, заживление ран замедляется или прекращается вовсе частично за счет снижения пролиферации и миграции клеток, как это наблюдается при хронических ранах [13, 14]. Исследования хронических ран пациентов с онкологическими заболеваниями показало, что адекватная оксигенация тканей и регуляция рН необходимы для пролиферации клеток и синтеза белка [15].
Кроме того, на клеточный оборот, миграцию и ферментативную активность влияют изменения рН и последующая активация различных рецепторов, связанных с G-белком (GPCR) [16]. Следует отметить, что низкий уровень рН на периферии раны, по-видимому, подавляет процессы, необходимые для функционального заживления раны. Аналогично, парциальное давление кислорода (pO 2 ) различается в острых и хронических ранах. При этом pO 2 составляет около 60 мм рт. ст. в острых ранах без эпителизации и в среднем 35 мм рт. ст. в хронических ранах. Причиной гипоксических состояний в облученных незаживающих ранах могло быть повреждение мелких сосудов и фиброз вследствие облучения [13, 14]. Можно предположить, что мониторинг рН и pO 2 поможет решить проблему лечения незаживления послеоперационных ран у пациенток с раком молочной железы.
Еще одним осложнением лечения пациенток с РМЖ, которые объединяют понятие постмастэктомического синдрома, являются постлучевые изменения тканей (постлучевые язвы, постлучевой фиброз молочной железы и пр.), которые подчиняются всем тем же фазам раневого процесса, как и другие раны.
Известно, что в первые две фазы раневого процесса (фаза воспаления и фаза пролиферации), изменения, происходящие в ране, связаны с инфекцией и некрозами тканей. Для лечения пациенток, у которых раневой процесс находится в этих фазах, задействует применение современных растворов антисептиков, ускоряющие процесс удаление инфекции и улучшающие результат хирургического лечения пациенток после мастэктомии. Было проведено исследование применения современных методов лечения сложных ран различной этиологии в разные фазы раневого процесса. В настоящее время предпочтительными антисептиками для лечения пациентов в I и II фазы раневого процесса являются: бета-дин октенисепт, хлоргексидин, повязки на основе серебра и даже мёда. При лечении хронической раны используется некрэкто-мия для перевода раны из хронической в острую стадию. В последующем после хирургического лечения применяются повязки. Современные представления о перевязочном материале изображены в таблице 2 [17–19].
Проводилось исследование применения повязок с мёдом для улучшения эстетического результата послеоперационной раны. В ходе исследования участвовало 52 пациента после хирургического вмешательства разной локализации, 5 из которых были с РМЖ. Средняя ширина послеоперационного рубца через 3 и 6 месяцев исследования составляла 3,64 ± 0,83 мм и 3,49 ± 0,87 мм. На стороне с повязкой, обработанной мёдом, – 5,43 ± 0,00,5 мм и 5,30 ± 1,35 мм соответственно. Тест Вил-консона показал разницу между двумя исследуемыми группами на 3 и 6 месяце исследования (р < 0,001). Были сделаны выводы, что конечный результат заживления раны улучшается при применении повязок с мёдом [20, 21].
Таблица 2. Новейшие перевязочные материалы [17–19]
|
Перевязочный материал |
Описание |
Примеры |
|
Плёнки |
Полупроницаемые плёнки для заживления поверхностных неинфицированных ран |
«Bioclusiv» «Hydrofilm» |
|
Пены |
Среды для заполнения полостей, обеспечивающие адсорбцию экссудата |
«PermaFoam» |
|
Гидрогели |
Гели, стимулирующие очищение раны для полостей и кожных ран |
«Гелепран» «Hydrosorb» |
|
Гидроколлоиды |
При поглощении раневого экссудата превращаются в гель, который обеспечивает влажную среду в ране |
«Hydrocoll» |
|
Альгинаты |
При поглощении раневого экссудата превращаются в гель, обладают высокими пластическими свойствами и гемостатическим эффектом |
«Silvercel» «Sorbalgon» |
|
Импрегнированные |
Повязки, содержащие различные антисептики, антибиотики, биологически активные вещества |
«Воскопран с хлоргексидином» «Atrauman Ag» «Mepilex Ag» |
|
Эквиваленты кожи |
Генно-инженерные материалы |
Моноклональные фибробласты |
Одним из методов лечения «сложных ран» различной этиологии, в том числе и у пациенток с РМЖ, является вакуум-терапия. Техника применения вакуум-терапии заключается в удалении экссудата через герметичную повязку при помощи отрицательного давления. Дренирующим материалом является мягкая пенополиуретановая (ППУ) губка с размером пор порядка 400–2000 мкм. Необходимым компонентом системы является адгезивное пленочное покрытие, дренажная трубка и источ- ник вакуума, снабженный емкостью для сбора получемого экссудата [22].
В ходе данного исследования были сделаны выводы, что применение вакуум-терапии является эффективным методом, так как улучшает результаты лечения пациентов с гнойно-воспалительными осложнениями мягких тканей за счёт сокращения сроков полного заживления ран.
Таблица 3. Результаты применения вакуум-терапии [23]
|
Структура заболеваний, n |
Кол-во регенераторных цитограмм на 16-й день лечения |
Уменьшение размеров раны на 50 % к 16-му дню лечения |
Период полного заживления раны, дни |
Длительность нетрудоспособности, дни |
|
Стерномедиастинит (n = 3) |
2 (66,7 %) |
1 (33,3 %) |
32,3 |
34,2 |
|
Осложнения после маммопластики (n = 2) |
2(100 %) |
2 (100 %) |
26,7 |
29,1 |
|
Пищеводные свищи после эзофагокардиомиотомии, фундопликации и иссечения дивертикула пищевода (n = 3) |
0 (0 %) |
3 (100 %) |
31,2 |
31,6 |
|
Аллогерниопластика (n = 3) |
2 (66,7 %) |
3 (100 %) |
22,6 |
29,9 |
|
Раневые осложнения после лапаротомий (n = 13) |
8 (61,5 %) |
11 (84,6 %) |
26,9 |
28,7 |
|
Раны после иссечения эпителиального копчикового хода (n = 36) |
23 (63,9 %) |
29 (80,6 %) |
27,3 |
28,6 |
|
Пролежни (n = 3) |
2 (66,7 %) |
1 (33,3 %) |
31,1 |
32,4 |
|
Осложненные раны в травматологии (n = 5) |
1 (20 %) |
3 (60 %) |
29,5 |
30,2 |
Выводы
Таким образом, не смотря на успехи раннего выявления и лечения пациенток с РМЖ, доля раневых осложнений у них велика ввиду иммунного статуса дынных пациенток, влияющего на раневой процесс. Обзор литературы по поводу проблем осложненного раневого процесса у данных пациенток и применение лечения данной проблемы при помощи традиционных методов, к сожалению, эффективны не у всех пациенток, необходимы разработки новых методов лечения и внедрение этих методов в клиническую практику у пациенток с диагнозом РМЖ.
Список литературы Проблема "сложных ран" и осложнённого раневого процесса у пациенток с раком молочной железы и подходы к её решению
- Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLO-BOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA A Cancer J. Clin. 2018;68(6):394-424. [PubMed] [Google Scholar]
- Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA A Cancer J. Clin. 2018;68(1):7-30. [PubMed] [Google Scholar]
- Runowicz CD, Leach CR, Henry NL, Henry KS, Mackey HT, Cowens-Alvarado RL, Cannady RS, Pratt-Chapman ML, Edge SB, Jacobs LA, Hurria A, Marks LB, LaMonte SJ, Warner E, Lyman GH, Ganz PA. American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology Breast Cancer Survivorship Care Guideline. CA Cancer J Clin. 2016 Jan-Feb;66(1):43-73. doi: 10.3322/caac.21319. Epub 2015 Dec 7. PMID: 26641959.
- Kumar S, Lal B, Misra MC. Post-mastectomy seroma: a new look into the aetiology of an old problem. J R Coll Surg Edinb. 1995;40:292-294.
- Porter KA, O'Connor S, Rimm E, Lopez M. Electrocautery as a factor in seroma formation following mastectomy. Am J Surg. 1998;176:8-11
- Yilmaz KB, Dogan L, Nalbant H, Akinci M, Karaman N, Ozaslan C, et al. Comparing scalpel, electrocautery and ultrasonic dissector effects: the impact on wound complications and pro-inflammatory cytokine levels in wound fluid from mastectomy patients. J Breast Cancer. 2011;14:58-63.
- Keogh GW, Doughty JC, McArdle CS, Cooke TG. Seroma formation related to electrocautery in breast surgery: a prospective randomized trial. Breast. 1998; 7:39-41.
- Wu X, Luo Y, Zeng Y, Peng W, Zhong Z. Prospective comparison of indwelling cannulas drain and needle aspiration for symptomatic seroma after mastectomy in breast cancer patients. Arch Gynecol Obstet. 2020 Jan;301(1):283-287. https://doi.org/10.1007/s00404-019-05396-2. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31781890; PMCID: PMC7028817.
- Wang L, Zhu M, Cui Y, Zhang X, Li G. Efficacy analysis of intraoperative radiotherapy in patients with early-stage breast cancer. Cancer Cell Int. 2020 Sep 11;20:446. https://doi.org/10.1186/s12935-020-01533-z. PMID: 32943994; PMCID: PMC7488558.
- Fujioka M. Surgical Reconstruction of Radiation Injuries. Adv Wound Care (New Rochelle). 2014 Jan 1;3(1):25-37. https://doi.org/10.1089/wound.2012.0405. PMID: 24761342; PMCID: PMC3900101.
- Negut I, Grumezescu V, Grumezescu AM. Treatment Strategies for Infected Wounds. Molecules. 2018 Sep 18;23(9):2392. https://doi.org/10.3390/molecules23092392. PMID: 30231567; PMCID: PMC6225154.
- Kim MJ, Ahn SJ, Fan KL, Song SY, Lew DH, Lee DW. Inlay graft of acellular dermal matrix to prevent incisional dehiscence after radiotherapy in prosthetic breast reconstruction. Arch Plast Surg. 2019 Nov;46(6):544-549. https://doi.org/10.5999/aps.2018.00073. Epub 2019 Nov 15. PMID: 31775207; PMCID: PMC6882689.
- Kim DY, Park E, Heo CY, Jin US,Kim EK, Han W, Shin KH, Kim IA. Hypofractionated versus conventional fractionated radiotherapy for breast cancer in patients with reconstructed breast: Toxicity analysis. Breast. 2020 Dec 1;55:37-44. https://doi.org/10.1016Xj.breast.2020.11.020. Epub ahead of print. PMID: 33316582; PMCID PMC7744765.
- Schreml S, Meier RJ, Wolfbeis OS, Landthaler M, Szeimies R-M, Babilas P. 2D luminescence imaging of pH in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108(6): 2432-7. https://doi.org/10.1073/pnas.1006945108.
- Auerswald S, Schreml S, Meier R, Blancke Soares A, Niyazi M, Marschner S, Belka C, Canis M, Haubner F. Wound monitoring of pH and oxygen in patients after radiation therapy. Radiat Oncol. 2019 Nov 11;14(1):199. https://doi.org/10.1186/s13014-019-1413-y. PMID: 31711506; PMCID: PMC6849199.
- Pleshkov V.G., Privolnev V.V., Golub A.V. Treatment of chronic wounds. Bulletin of Smolensk State Medical Academy. 2015;2(14):58-65.
- Haverkampf S, Heider J, Weiß KT, et al. NHE1 expression at wound margins increases time-dependently during physiological healing. Exp Dermatol. 2017;26(2): 124-126. https://doi.org/10.1111/exd.13097. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Weiß KT, Fante M, Köhl G, et al. Proton-sensing G protein-coupled receptors as regulators of cell proliferation and migration during tumor growth and wound healing. Exp Dermatol. 2017;26(2): 127-32. https://doi.org/10.1111/ exd.13209
- Privolnev V.V., Rodin A.V., Karakulina E.V. Local application of antibiotics in treatment of bone tissue infections. Klin. microbiol. and antimicrob. Chemotherapy. 2012;2:118-132.
- Powers J.G., Morton L.M., Phillips T.J. Dressings for chronic wounds. Dermatol. Ther. 2013;26:197-206.
- Pleshkov V.G., Privolnev V.V., Golub A.V. Treatment of chronic wounds. Bulletin of Smolensk State Medical Academy. 2015;2(14):58-65.
- Goharshenasan P, Amini S, Atria A, Abtahi H,Khorasani G.Topacal Application of Honey on Surgacal Wounds: A Randomized Clinical Trial. Forsch Komplemented. 2016; 23(1):12-5. https://doi.org/10.1159/000441994. Epub 2016 Feb 9. PMID: 26977860.
- Vacuum therapy in the treatment of epithelial coccygeal passage / M.F. Cherkasov, K.M. Galashokyan, Y.M. Startsev, D.M. Cherkasov. Coloproctology. 2016;1(55):35-40.
- Cherkasov M.F., Galashokyan K.M., Startsev Y.M., Cherkasov D.M., Pomazkov A.A., Melikova S.G., Pereskokov S.V., Lukash A.I. Experience of treatment of wounds of various etiology using vacuum therapy. Sciences of Europe. 2019;40-1(40). URL: https://cyberleninka.ru/article/nZopyt-lecheniya-ran-razlichnoy-etiologii-s-primeneniem-vakuum-terapii (accessed 22.01.2021).