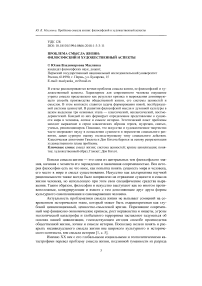Проблема смысла жизни: философский и художественный аспекты
Автор: Маслянка Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 3 т.1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вечная проблема смысла жизни, ее философский и художественный аспекты. Характерное для современного человека ощущение утраты смысла представлено как результат кризиса и вырождения доминирующего способа производства общественной жизни, его системы ценностей и смыслов. В этом контексте ставится задача формирования новой, постбуржуазной системы ценностей. В развитии философской мысли и духовной культуры в целом выделены три основных этапа - классический, неклассический, постмодернистский. Каждый из них формирует определенное представление о сущности мира и человека, логике и смысле истории. Эстетический пласт проблемы находит выражение в серии классических образов героев, мудрецов, святых, ученых, революционеров. Показано, что искусство и художественное творчество часто опережают науку в осмыслении сущности и перспектив социального развития, давая суровую оценку господствующему типу социального действия. Классическая дихотомия Г амлета и Дон Кихота берется за основу репрезентации художественного плана проблемы.
Смысл жизни, система ценностей, кризис цивилизации, понятие, художественный образ, гамлет, дон кихот
Короткий адрес: https://sciup.org/148317242
IDR: 148317242 | УДК: 128 | DOI: 10.18101/1994-0866-2018-1-3-3-11
Текст научной статьи Проблема смысла жизни: философский и художественный аспекты
Поиски смысла жизни — это одна из центральных тем философского знания, начиная с момента его зарождения и заканчивая современностью. Вся история философии есть не что иное, как попытка понять сущность мира и человека, его место в мире и смысл существования. Искусство как альтернатива научной рациональности также всегда было направлено на отражение сущности и смысла жизни человека, но использовало при этом свои специфические средства выражения. Таким образом, философия и искусство выступают как во многом противоположные, конкурирующие и вместе с тем дополняющие друг друга формы культурного самопонимания и самовыражения человека.
Актуальность проблематики смысла жизни не вызывает сомнений на современном историческом этапе, который может быть охарактеризован как глубокий цивилизационный, ценностно-смысловой кризис. Поразившие современный мир финансово-экономические кризисы, рост неравенства и нищеты, угрозы экологической катастрофы и глобального терроризма заставляют задуматься об основах нашей цивилизации, господствующем сегодня способе производства общественной жизни, логике и смысле истории. Поскольку нельзя понять и раскрыть индивидуального смысла жизни вне широкого культурного и исторического контекста, вне смысла истории [1, с. 5].
Именно ХХ век с его глобальными социальными и геополитическими катастрофами перевел проблему смысла жизни, подлинной гуманности из разряда теоретических в разряд практических проблем, требующих от каждого из нас осознанного и ответственного действия. Показательно, что именно в цивилизованном обществе, в развитых странах мира статистика фиксирует неуклонный рост депрессий и суицидов, вызванных аномией [2], глубоким разочарованием в жизни. Известный австрийский психолог и философ, создатель логотерапии (смыслотерапии) В. Франкл пишет об этом так. «Сегодня мы, по сути, имеем дело уже с фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с фрустрацией потребностей экзистенциальных. Сегодняшний пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во времена Адлера, сколько от глубинного чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением пустоты, — поэтому я и говорю об экзистенциальном вакууме» [3, с. 24]. Большинство мыслителей, как и Франкл, видит причину этого в разрушении традиционного общества, веры в некую устойчивую тотальную систему ценностей и смыслов. Польский психолог К. Обуховский определяет новейшую тенденцию как революцию субъектов и связывает драму современного человечества с искушением предметизации. В традиционной культуре («культуре людей-предметов») условием хорошего самочувствия и даже гордости индивида было следование определенным стандартам, социальным ролям, которое в новых условиях часто лишено всякого смысла. «Глупость политиков, тупость идеологов, атмосфера, а может, просто всеобщее образование, которого требовали новые технологии, привели к тому, что люди утратили шанс полагаться на данные им культурные модели» [4, с. 249].
Таким образом, базовый конфликт современности исследователи видят в столкновении традиции и модернизации, «культуры людей-предметов» и «культуры людей-субъектов» (по Обуховскому). Такая трактовка, с нашей точки зрения, не лишена определенного смысла, но явно недостаточна. Борьба старого и нового, различных способов производства общественной жизни, «переоценка всех ценностей» (Ф. Ницше), проявления нигилизма — многократно повторялись в истории человечества. Достаточно вспомнить Гамлета, принца датского, говорившего о прерванной связи времен и о том, что он должен ее восстановить. Или острый конфликт отцов и детей, представленный в образах семьи Кирсановых и нигилиста Евгения Базарова. Поэтому не стоит, с нашей точки зрения, излишне жестко и механистично противопоставлять современную ситуацию предшествующим эпохам как тотальному традиционализму. Во все времена индивиды привносили что-то новое в существующий способ производства и осмысления жизни, развивали и углубляли существующую систему ценностей. Другое дело, что в современном обществе эти изменения приобретают более глубокий и динамичный характер. На первый план выходит тенденция индивидуализации исторического процесса, связанная с формированием нового типа общественного производства.
Глубокий научный анализ состояния современного общества позволяет говорить о кризисе и вырождении доминирующего на глобальном уровне и интегрирующего всю «мировую суперсистему» буржуазного способа производства общественной жизни, лежащего в его недрах типа труда и производственных отношений [5, с. 210]. Это выражается, с одной стороны, в угнетении и подавлении формирующихся элементов всеобщего труда и интеллекта, составляющих основу постбуржуазной цивилизации, с другой — в укреплении традиционного уклада жизни в отстающих странах и регионах мира, в восстановлении традиционного типа социального действия и соответствующей ему архаичной системы ценно- стей. Современный человек оказался перед странной дихотомией между пустой свободой и индивидуализмом буржуазной морали и бессмысленным догматизмом традиционной морали, т. е. искушением предметизации. Это выбор без выбора.
Развитие материальной и духовной культуры человечества — это неизбежность. На смену машинному труду и соответствующей ему организационной системе неизбежно придет новый, всеобщий научный, или автоматизированный, труд [6, с. 116], который потребует новой организации труда, новых социальных институтов, новых представлений о мире и человеке, новой системы ценностей. Мы уже писали о том, что система ценностей добуржуазного и буржуазного общества может быть определена как абстрактно-всеобщая [7, с. 178], поскольку ценности знаний, труда, патриотизма, равенства, братства, справедливости и прочие носят в ней во многом абстрактный, декларативный характер. Эти ценности могут быть реализованы и осмыслены людьми в различной степени в зависимости от их сословной или классовой принадлежности. Являются ли реальными ценности знаний, любви к труду, равенства и патриотизма для нещадно эксплуатируемых народных масс в классовых обществах — рабов, крестьян, наемных рабочих? Однако и представители господствующих классов не являются носителями этих ценностей в их подлинном смысле. Не вовлеченные непосредственно в процесс созидания материальной культуры, не чувствующие напряжения и тягот «народной жизни», представители господствующего класса зачастую «лишаются корней», отрываются от жизни, ощущая экзистенциальную пустоту. В конечном счете индивиды равны только перед Богом как абстрактные духовные существа. Поэтому религия и выполняет во всех классовых обществах стабилизирующую и компенсирующую функции, являясь метафизическим фундаментом и оправданием любой классовой идеологии.
Новая, формирующаяся на основе всеобщего труда и интеллекта система ценностей и смыслов будет носить, с нашей точки зрения, конкретно-всеобщий характер. Это означает, что ценности интеллектуального развития, любви к труду, патриотизма и интернационализма, человеколюбия постепенно будут наполняться реальным содержанием. По сути, мы говорим здесь о сложном процессе формирования новой идентичности, нового исторического типа человека, процессе, идущем на всех уровнях социальности — экономическом, идеологическом, моральном, рационально-логическом, эстетическом. Не вдаваясь здесь в детали и не давая оценок ситуации в современном российском обществе, подчеркнем лишь, что прогрессивными в данном отношении являются тенденции растущего государственного планирования и регулирования экономики и культуры в целом на демократических, общенародных началах.
Таким образом, перед современным человеком стоит нетривиальная задача формирования новой системы ценностей и смыслов, системы, которая будет не простым отрицанием предыдущей, но будет включать в себя базовые ценности предыдущей культуры, наполняя их новым, конкретно-всеобщим содержанием и смыслом. На этом пути научная рациональность и художественное творчество, безусловно, нуждаются друг в друге.
Рассмотрим общую логику развития проблематики смысла жизни в истории философии. В развитии философской мысли, с нашей точки зрения, отчетливо выделяются три основных этапа, которые связаны с общим уровнем и логикой развития материальной и духовной культуры человечества. Базовые принципы и система ключевых понятий этих этапов определяют общее миропонимание эпохи, представление о сущности, ценности и смысле жизни человека.
Классический этап характеризуется, в общем, системностью, рационализмом, «гносеологическим оптимизмом», устойчивой системой понятий и бинарных оппозиций: материальное/идеальное, развитие/тождество, необходи-мость/случайность, причина/следствие и т. д. В классической философии смысл жизни трактуется как отражение-переживание сущности мира, природы и истории, родового и индивидуального содержания нашей жизни. Смысл жизни индивида неразрывно связан с сущностью мира, человека, логикой и смыслом истории, является индивидуальным выражением родового, универсального. Однако до середины XIX в. все философы независимо от их принадлежности к партиям материализма или идеализма фокусируют свое внимание на духовной стороне человеческой природы, связывая смысл жизни исключительно с интеллектуальным досугом, научным творчеством, просвещением и нравственным самосовершенствованием. Такая установка была предопределена классовой структурой общества, оставлявшей в тени и принижавшей материальные аспекты природы человека, его способность к непосредственному преобразованию природы и общественной жизни.
Кардинальный поворот в классической философии произошел в середине XIX в., когда бурное развитие буржуазных отношений нашло выражение не только в становлении системы наук, но и в выдвижении на первый план могущественной силы истории, субстанции исторического процесса — народных масс. Эти фундаментальные изменения нашли свое теоретическое выражение в философии марксизма, которая смогла не только разрешить ряд крупных проблем классической философии, но и сформировать цельное, внутренне и внешне непротиворечивое представление о сущности мира, человека, смысле жизни. С позиций марксизма человек представляет собой интегральное социальноматериальное существо, концентрированно несет в себе и выражает сущность бесконечного мира, является индивидуализированным родовым существом. При этом смысл его жизни не сводится исключительно к духовному творчеству (отражению и объяснению реальности), но, главное, состоит в объективном преобразовании природы и самого себя, развитии общественных отношений, реальной, деятельной эмансипации своей природы. Таким образом, подлинный гуманизм состоит в деятельном, объективном самопреобразовании и самоосвобождении человека.
Неклассический этап в философии есть, с одной стороны, следствие трудностей и нерешенных проблем классического этапа, с другой — следствие углубляющихся противоречий, кризисов буржуазного общества. Этот этап характеризуется тем, что развивается в классической системе понятий, хотя и смещает акценты в сторону дуалистической/плюралистической картины мира, иррационализма, агностицизма. С одной стороны, неклассические философы фокусируют внимание на субъективности индивида, его глубинных переживаниях и смысле жизни, с другой — жестко и механистично противопоставляя субъективное и объективное, «вещь-для-нас» и «вещь-в-себе», лишают субъективные переживания их «онтологических корней». Смысл жизни индивида разворачивается исключительно в индивидуальном смысловом пространстве, в отрыве от сущности мира, сущности и смысла истории. Несмотря на то, что такие художественные произведения, как «Тошнота» Сартра или «Посторонний» Камю, явля- ются довольно точным выражением переживаний одинокого человека в эпоху глубокого кризиса, они по этой же самой причине, не могут быть признаны аутентичным переживанием и выражением действительного смысла жизни.
Постнеклассический, или постмодернистский, этап в развитии философии характеризуется тем, что подвергает тотальной деконструкции систему понятий и принципов научной рациональности и классической культуры. Он сам является довольно точным и глубоким отражением процесса вырождения и разложения современной буржуазной цивилизации. Если неклассическая философия, по сути, элиминировала онтологическую проблематику, то постнеклассическая элиминирует и гносеологические проблемы. Все сколько-нибудь крупные философские проблемы здесь подлежат деконструкции [8]. Остается лишь «поверхность», поверхностные, лишенные глубины смыслы. Все вещи, явления и процессы объявляются равноценными, и мы движемся от одного явления к другому, фиксируя лишь их различие. Все ценностные иерархии деконструируются, что, заметим, очень важно в условиях объективного доминирования отнюдь не лучшей (не прогрессивной) идеологии и системы ценностей. Полагаем, что именно благодаря своему могущественному союзнику — постмодернистской символической культуре — давно дискредитировавшая себя буржуазная идеология сохраняет свое влияние в глобальном мире.
Обратимся теперь к другой стороне — художественному осмыслению и переживанию сущности человека. Задолго до появления философского и научного мышления, системы понятий и даже письменности искусство выполняло важнейшую функцию интеграции внутреннего мира человека и, соответственно, интеграции, первичного объяснения внешнего мира. Уже первые образцы наскальной живописи и примитивные изображения человека (например, «Венера палеолита») дают представление о содержании, ценностях и основных смыслах первобытной жизни. Как и философия, искусство отражает основные этапы и вехи в развитии материальной и духовной культуры. Здесь также правомерно говорить об этапах классического, современного и, наверное, постсовременного искусства, во многом повторяющих ориентации рассмотренных выше философских этапов. Если классическое искусство в большей степени ориентировано на внешний мир и стремится максимально полно и глубоко раскрыть связь человека с мирозданием и обществом, то неклассическое (современное) искусство выражает драму потерянного и одинокого человека, утратившего надежду покорить природу, сделать гуманным общество и обрести в связи с этим смысл жизни. Искусство конца XIX — первой половины ХХ в. погружается во внутренний мир человека, стремясь найти там некую «точку опоры». Постсовременное искусство, как представляется, подрывает и эту последнюю надежду, эстетизируя теневые стороны нашей культуры, распад, небытие, бессмысленность.
В отражении реальности искусство обладает некоторыми преимуществами перед научной рациональностью. Оно часто опережает научное мышление в постановке важных проблем и обнаружении феноменов, которые еще только формируются, вызревают в недрах социальной жизни и не стали предметом научной рефлексии. Не случайным является «тот факт, что творения Софокла и Еврипида предшествовали диалогам Платона, ″Метафизике″ и ″Поэтике″ Аристотеля, что, скажем, в более позднее время Шекспир и Бальзак гениально отразили многие картины жизни, теоретическое осмысление которых было впослед- ствии дано Марксом, что предшественником или даже предтечей плеяды русских философов Серебряного века был Достоевский» [9, с. 9].
Если научное мышление оперирует понятиями, то художественное оперирует образами, интегрирующими сознательные и бессознательные аспекты психики, дающими целостное отражение реальности во всем ее бесконечном богатстве. Логическое мышление занимается тем, что преимущественно расчленяет реальность, фиксируя границы тех или иных явлений и выявляя их сущность по отношению к сущности человека, находящегося на определенном этапе развития. В этом смысле логическое мышление как бы стремится зафиксировать актуальный уровень развития реальности. Художественное мышление, напротив, всегда синкретично и внутренне динамично, актуальный и потенциальный планы реальности здесь находятся в глубоком внутреннем единстве.
Если наука фокусирует внимание на общем и универсальном, то искусство дает конкретно-чувственный образ реальности, раскрывая уникальные, неповторимые моменты жизни.
Вместе с тем, рассматривая дихотомию научного мышления и художественного творчества, мы должны отдавать себе отчет в том, что в нашей жизни они неразрывно связаны, как неразрывно связаны логический и чувственный уровни познания, сознание и бессознательное человека. Так, классический спор физиков и лириков возникает в силу рассудочного, механистичного противопоставления двух тенденций, заложенных в самой природе нашего мышления. Абсолютизация одной из этих тенденций, жесткое (недиалектичное) их противопоставление заметно обедняют наше понимание природы социального отражения, обедняют духовный мир личности.
Философия, занимающая исключительное место в системе научного знания, являющаяся источником и интегратором научного мышления, в целом имеет особые взаимоотношения с искусством и художественным творчеством. С момента своего возникновения философия становится доминантой духовной культуры человечества, оказывая мощное воздействие на все жанры и виды искусства. В той или иной степени все жанры искусства сегодня приобретают философский характер. Однако особое место среди них занимает литература, зачастую непосредственно выражающая те или иные философские проблемы и предлагающая варианты их решения. Глубокое видение и понимание своей эпохи дали нам произведения Гомера, Данте, Сервантеса, Шекспира, Гёте, Толстого и других гениальных художников.
Кроме того, метафоры и другие художественные возможности языка являются важнейшими инструментами развития самого философского мышления [10, с. 79]. Философия, давая нам интегральную картину реальности, всегда работает на границе возможностей языка. Формируя новый язык, она тем самым формирует новое, более глубокое и развернутое представление о сущностной структуре реальности. Работа с языком и его выразительными возможностями является полем пересечения философии и литературы.
Классическая литература создала целую галерею образов, выражающих определенные представления о сущности человека и общества, ценности и смысле жизни. Это и сражающиеся с судьбой и богами мифологические герои, и мудрецы, влекомые истиной, и святые, и ученые мужи, положившие жизнь на алтарь науки и социального прогресса. Остановимся на близком нам образе Фауста Гете. Фауст — архитипический для западной культуры образ интеллектуала, увлечен- ного познанием тайн мироздания, оторвавшегося от своих природных корней и подлинных чувств. Неутолимое стремление к истине гонит Фауста все дальше, уводя при этом от самого себя, лишая покоя и простых человеческих радостей. Примерно об этом же, как представляется, рассуждает Лев Толстой в «Войне и мире», создавая образы Андрея Болконского и Пьера Безухова. Толстой говорит нам о том, что социальное самоутверждение, связанное с рационализмом и интеллектуализмом, не может служить источником счастья и подлинного смысла жизни. Похожие идеи мы встречаем у Ф. М. Достоевского, противопоставляющего самоубийственный интеллектуализм и рационализм Ивана Карамазова подлинной духовности традиционной культуры, которую выражает Алеша Карамазов. Однако мы должны понимать, что образы и идеи великих русских писателей — Толстого и Достоевского — являются плодами своей эпохи, затянувшегося цивилизационного конфликта между западниками и славянофилами, сторонниками буржуазной цивилизации, технического прогресса и традиционной полуфеодальной культуры. В этом затянувшемся на просторах нашего отечества споре Толстой и Достоевский, как представляется, занимали сторону традиционных ценностей русской культуры и религиозного мировоззрения в целом.
С нашей точки зрения, драма современного человека («фаустовской цивилизации») состоит не в интеллектуальности как таковой. А в том, что, во-первых, интеллект служит удовлетворению собственных эгоистических целей и интересов. Интеллект не служит развитию общества в целом. И, во-вторых, в силу объективных условий жизни в классовых обществах подлинное интеллектуальное развитие доступно далеко не всем, становясь во многом символом глубокого социального расщепления, несправедливости. В этом смысле ценность интеллектуального развития в нашей культуре до сих пор носит абстрактный, декларативный характер. Даже у представителей интеллектуальных видов деятельности в современных условиях, особенно в России, интеллектуальная установка не получает должного чувственного подкрепления и ценностной поддержки на уровне коллективного бессознательного.
Рассмотренные выше противоречия отчасти были сняты (в гегелевском смысле) в советской литературе и культуре. Она предложила новые героические образы — революционера, человека труда, ученого, отдающего все силы, а то и жизнь на благо общества. Эти образы не были абстрактными и действительно воодушевляли людей, поскольку были «выплавлены», созданы самой жизнью в строящемся социалистическом обществе. Образы советских людей — ученых, инженеров, изобретателей — являются выражением тех прогрессивных тенденций, которые впервые в истории были реализованы в Советском Союзе и, к сожалению, дискредитированы и поглощены поздним капитализмом.
Созданный советской литературой образ Павки Корчагина неразрывно связан с другим фундаментальным образом нашей культуры — образом Дон Кихота. В своей замечательной статье «Гамлет и Дон Кихот» И. С. Тургенев пишет, что в главных героях этих ключевых для нашей культуры произведений воплощены «две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится… что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов…» [11, с. 169].
Дон Кихот служит высшим ценностям человеколюбия и справедливости, видит отдаленные цели и на пути к ним часто разрушает устоявшийся порядок вещей. В силу этого он выглядит в глазах людей чудаком и безумцем. Жить для себя, заботиться о себе для Дон Кихота — это что-то постыдное и невозможное. Гамлет — его антипод, он сосредоточен на себе, своем разочаровании и страданиях. Отличительные черты Гамлета — рассудочность и эгоизм, рождающие безверье. Идеалы, в которые он верил, рухнули, его удел — сомнение во всем и даже в себе.
Гамлет интеллектуален и глубок, он никогда не бывает смешным, но он и не имеет внутренней силы и убежденности, чтобы что-то создать, повести за собой других. «Гамлеты точно бесполезны массе; они ей ничего не дают, они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут» [11, с. 175]. С нашей точки зрения, образ Гамлета — точная характеристика человека кризисной эпохи, эпохи, когда прежняя система ценностей уже изжила себя, а новая еще не вызрела и не осознается людьми. Гамлет всякий раз выступает как эстетический приговор эпохе, он окончательно разрушает прежние устои и систему ценностей, расчищая пространство для новых идеалов. Показательны в этом смысле образы Гамлетов — «лишних людей», созданных русской литературой XIX в., выразившей кризис крепостничества и затянувшийся процесс становления буржуазных отношений в нашей стране. И сегодня Гамлет — доминирующий тип мировой и отечественной культуры, потерявшей ориентиры и «героический энтузиазм».
Таким образом, философская «эпоха “бытия в деконструкции”» (Ж. Деррида) находит свое закономерное выражение в художественном творчестве, что, как ни парадоксально, не должно усиливать пессимизма, а должно стимулировать нас к созиданию и утверждению новой системы ценностей.
Список литературы Проблема смысла жизни: философский и художественный аспекты
- Гобозов И. А. Смысл жизни как экзистенциальная проблема // Философия и общество. 2013. № 1. С. 5-20.
- Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994. 399 с.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
- Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб.: Речь, 2003. 296 с.
- Орлов В. В., Васильева Т. С. Философия экономики. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 264 с.