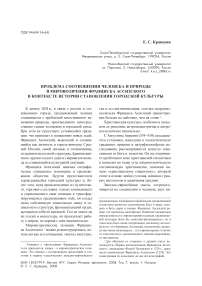Проблема соотношения человека и природы в мировоззрении Франциска Ассизского в контексте истории становления городской культуры
Автор: Кравцова Е.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736914
IDR: 14736914 | УДК: 94»04/14»(4)
Текст краткого сообщения Проблема соотношения человека и природы в мировоззрении Франциска Ассизского в контексте истории становления городской культуры
К началу XIII в., в связи с ростом и становлением города, средневековый человек сталкивается с проблемой качественного изменения природы, производимого непосредственно самим человеком в городской среде. При этом не существует устоявшейся традиции, что приводит к появлению новых идей. Франциск Ассизский, выросший и сложившийся как личность в городе-коммуне Средней Италии, своей жизнью и сочинениями, созданием целостной структуры, францисканского ордена создает один из вариантов выхода из сложившейся культурной ситуации.
Франциск Ассизский занимал специфическое социальное положение в средневековом обществе. Будучи представителем зарождающейся городской культуры и, более того, ведя происхождение из купеческого, торгового сословия, только занимающего и укрепляющего свои позиции в трансформирующемся средневековом ordo, он создал свою собственную социальную нишу и социальную структуру, францисканский орден, вычеркнув себя из прежней. Тем не менее он не уходит в монастырь, он продолжает работу с миром, не порвав с ним окончательно.
Мировоззренческие позиции Франциска Ассизского 1 можно реконструировать, используя как его сочинения, «взгляд изнутри», так и его жизнеописания, «взгляд снаружи», поскольку Франциск Ассизский ориентирован больше на действие, чем на слово 2.
Христианская культура, особенно в западном ее решении, антропоцентрична и антро-потеологична изначально.
С Августина Аврелия (354–430) складывается установка, вошедшая в схоластическую традицию: природа и натурфилософские исследования рассматриваются всецело зависимыми от Бога и теологии. Он же очерчивает проблемное поле христианской схоластики и возводит во главу угла антропологическую составляющую христианства, положив начало «христианскому сократизму», который стоит в основе любого учения, начиная с ранних апологетов и заканчивая ересями.
Западно-европейская мысль сосредоточивается на соединении в человеке двух на- средневековья. Основными проблемами средневековой схоластики являются соотношение Бога и мира, человека и Бога, веры и знания. Франциск Ассизский решает эти проблемы своеобразно. Наиболее адекватным определением его мировоззрения в рамках средневековой культуры было бы «мистико-визионерское», но и здесь надо быть очень осторожным, поскольку, несмотря на то, что Франциск Ассизский, несомненно, является мистиком-визионером, – его мировоззрение отлично от классического средневекового западно-европейского мистицизма.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © Е. С. Кравцова, 2008
чал, тварного и божественного, пытаясь определить их границы и суть связи. Природа механически относится к тварному и служит лишь для удовлетворения нужд человека.
В связи с появлением в XII в. Шартрской школы развивается идея об отделении развития природы от Бога. После акта творения Бог не вмешивается в развитие мира, предоставляя человеку все заботы по подчинению его себе. Разум – единственный принцип формирования мира, а природа – объект самостоятельного изучения.
К XIII в., на территории Северной и Средней Италии, при переходе с аграрной экономики на преимущественно городскую, постепенно изменяется социальный организм средневекового общества. Размывание четких границ традиционного ordo и образование новых социальных страт и групп ведут к пересмотру прежних культурных ценностей, становлению новых. Городской социум самим своим появлением дает импульс к преобразованию всей средневековой социальной среды, а проблема начальной «вне-социальности» городского общества решается становлением и развитием городской культуры. Одновременно с собственной глубокой сакрализацией, городская культура способствует секуляризации культуры в целом, именно в городе раз- виваются элементы рационализма. Как пишет А. Я. Гуревич, в городах идет процесс создания качественно иной среды, в которой обращаются продукты человеческого труда. «Человек лицом к лицу с изменяемой им природой задается вопросом, который не мог бы и прийти в голову крестьянину: являются ли орудия труда и другие его изделия творениями Бога или его собственными созданиями?» [3. С. 188].
Франциск Ассизский не забывает о человеческом факторе, но рассматривает его в совокупности со всей природой в целом. Это – одна из важнейших его новаций в западно-европейской культуре. Франциск проповедует смирение не только отдельного человека, но человечества вообще, как вида, поставив Человека в один ряд с Братом Огнем и Сестрицей Птичкой. Он не стремится к изучению природы, он постигает ее суть мистическим путем.
Система соотношения «Бог – Мир» в мировоззрении Франциска Ассизского основывается на его своеобразном понимании панпсихизма как присущей всем вещам – как разумным, так и лишенным разума, – души, которая есть Бог.
Схематически соотношение Бога и мира, в мировоззрении Франциска Ассизского, можно изобразить так:
БОГ
Мир небесный
Мир земной

Природа
Человек бессмертный
Человек

Человек смертный--► Отрицание себя-ложного
Конечная смерть
В основе концепции Франциска Ассизского лежит положение о неразделимости мира небесного, нематериального, наполненного божественным светом и любовью, и мира земного, где находятся все создания божьи, обладающие материальным воплощением и прославляющие своим существованием своего Создателя. Творение – это «зеркало Абсолюта», мир – манифестация Бога. «И да будет Он восхваляем и превозносим нами вовеки, и всеми созданиями, что под небом и над землею, и теми, что под землей и морем, и тем, что в нем» [1. С. 210]. То, что вне Божьего – иллюзия, не существующее, по- скольку истинная жизнь возможна только в Боге: «Господь наш Иисус Христос, который положил душу свою за овец своих, молился отцу, так говоря: “святой Отец, тех служителей имени твоего, что дал мне в этом мире; твои были, теперь мне их отдал. И слова, что мне дал, я передал им; и сами они приняли и истинно поверили, что от тебя я пришел и познали они, что ты меня послал. Я прошу за них, но не за мир (курсив наш. – Е. К.). Благослови их и освяти, и за них я посвящаю себя. И не только за них я прошу, но и за тех, кто верит в меня, по их словам, чтобы они были освящены как одно, как и мы. И я хочу, отец, чтобы где я – там и они со мною, чтобы видели свет мой в царствии твоем. Аминь”» 3.
Мир небесный, абсолютно благой и праведный, трансцендентен и имманентен одновременно миру земному. Бог – независимый Творец по отношению к миру, но, в то же время, Он – внутри-присущ миру, им сотворенному. Мир земной заключает в себе природу, которая, являясь материальной, может принадлежать и принадлежит миру небесному. Проповеди Франциска Ассизского перед птицами, рыбами, цветами и дикими зверями – это не только установка на то, что Бог только в тех кто верит в него, но и песнь во славу Божию: «И если где-нибудь встречалось ему большое множество цветов, он подходил к ним и проповедовал, призывая воздать хвалу Господу, словно и они наделены разумом. Так же колосья и виноградные гроздья, камни и леса, воды источников и зелень садов, саму землю и огонь, воздух и ветер он в целомудрии душевном склонял возлюбить Господа и ободрял их воздать Ему хвалу» [2. 1Cel., XXIX, 81].
Человек, обладающий свободой воли, т. е. имеющий право выбора быть спасенным, или ожидать Судного Дня не раскаявшись, самое странное создание Бога: «И все создания, что существуют под небесами, служащие тебе (имеется в виду человек. – Е. К.), познают и служат Создателю своему лучше, чем ты» [1. 58 – Admjnitiones, cap. V]. Он может принять Бога, т. е. стать человеком бессмертным, а может не принять и умереть конечной смертью. Человек – место встречи двух миров: мира небесного и мира земного. Смертный человек становится бессмертным в тот момент, когда отрицает себя-ложного, т. е. отрицает все, что ни есть богово: «Горе тем, кто погибает в смертных грехах; блажен- ны те, кого настигнет она в исполнении твоей святейшей воли, кому вторая смерть зла не причинит» [1, 228 – Canticum fratris Solis vel laudes creaturarum].
Франциск Ассизский, стремясь к работе в миру, вычеркивает себя из мира земного (в данном случае из своего социума), отрицая свою волю, личную собственность и земных родителей. По своему социальному статусу он становится ничем и, выпав из человеческого общества, делает выбор, соединив свою волю с волей Бога, т. е. обретает истинную свободу. Он меняет иллюзорное на непреходящее и истинное.
С проблемой соотношения человека, природы и Бога тесно связано понятие «зла», проблема его происхождения.
Зло, по мысли Франциска Ассизского, происходит из желания человека смертного увлекаться тем земным, что не от Бога, что было сотворено самим человеком, например, приобретать собственность, иметь деньги – субстрат собственности. Зло не приходит извне, оно приходит изнутри, из сердца, человек делает выбор сознательно: «Видят и знают, понимают и свершают зло и сами, сознательно, губят свою душу. Смотрите, слепцы, вы обмануты врагами вашими: плотью, мирским и дьяволом; телу сладостно свершать грех, и горько служить Господу; так все пороки и прегрешения из человеческого сердца рождаются и произрастают, как сказал Господь в Евангелии» 4. Таким образом, человек создает «альтернативную вселенную», где искажаются первоначальные ценности вселенной, созданной Богом. Волю Создателя он подменяет своей собственной: «Тот же, кто вкушает от древа познания добра, тот обретает свою собственную волю и отпадает от благ, о которых Господь говорил и которые творил ему; и так, через дьявольское влияние и через нарушение договора плод становится плодом познания зла» [1. 56 – Admonitiones, cap. II]. Создание человеком фальшивого, несуществующего мира, кривого отражения мира небесного, – и есть причина зла и само зло.
Франциск Ассизский, как сын своей эпохи, видит дьявола вполне конкретным существом. Диабло его искушает, посылает на землю бесов, которых Франциск периодически изгоняет. Но в то же время для него истинное зло – абстрактно, живет в человеческом сердце и происходит от свободы воли, которую человек обрел, откусив от плода древа познания добра и зла.
Показательно отношение Франциска к труду и искусству, как труду, к проблеме преображения человеком данной Богом природы.
На рубеже XII–XIII вв. и далее, вплоть до «осени средневековья», искусство считалось более низменным занятием, нежели занятия наукой. Согласно средневекому аристотелиз-му, художественные искусства не более, чем рабское копирование созданий Бога. С такой же точки зрения рассматривался труд художников. Труд архитекторов, в связи со знанием геометрии, считался более благородным.
Для Франциска и францисканского Ордена труд обязателен [1. 56 – Admonitiones, cap. II]. Брать за него деньги Франциск запрещал категорически. Реабилитация труда принимает в мировоззрении Франциска теологический характер.
Франциск в начале своего обращения восстанавливает церкви, микрокосм в макрокосме. Он занимается проповеднической деятельностью, и это тоже тяжелый труд, это восстановление, реконструкция каждого, отдельно взятого человека, которого Франциск обратил к Богу своей проповедью. Труд для Франциска – это не только занятие с целью избежать соблазнительного досуга, во время которого в сердце может прокрасться дьявол, это и созидание, своего рода искусство.
Основной принцип мировоззренческой позиции Франциска Ассизского – это поиск Бога не среди горечей мира земного, а в радости ощущения и пребывания в мире земном, как отражении небесного. Именно бедность, как показатель полного отказа от иллюзорного мира, лишенного Бога, рождает любовь и радость, при этом радость имеет также двоякое значение: в антимире – греховный пустой смех, в мире истинном – благодать.
Мир земной наполнен божественной любовью: « Да будет воля твоя как на небе, так и на земле : пусть возлюбим мы тебя всем сердцем, всегда о тебе размышляя, всей душой только тебя желая, всем сознанием все стремления наши к тебе направляя, честь тебе во всем ища и всем мужеством нашим всеми силами и чувствами души и тела в завоевание твоей любви и не обращая их ни на что дру-гое»[1. 204 – Expositio in Pater Noster].
Франциск чувствует всеохватную целостность Сущего, исполненную красоты и совершенства, он выражает свое видение мира в поэзии. В медитативном акте творчества, сотворении гимна либо молитвы, он соединяется с миром, чтобы восславить Бога, Абсолют.
В начале своего пути Франциск пел на окситанском песни радости. Когда он впадал в мистический экстаз, то представлял, что играет на виоле, как трубадур, восхваляя Бога песнями. Но в поэзии трубадуров описания природы – это только фон, оттеняющий настроения и чувства человека. Франциск Ассизский в конце жизни сочинил «Гимн брату Солнцу» (1225 г.), прославляющий весь мир и Бога в нем. В этом гимне сосредоточено видение мира Франциском Ассизским. Мир един, он создан Богом для того, чтобы славить его существование своим, от Солнца, до смерти. Франциск Ассмзский любит жизнь, но он любит и смерть, потому что все это – от Бога. Но, несмотря на радость, пронизывающую гимн, диссонансом звучит мотив сострадания за тех, кто отказался от Бога и слишком поздно осознал это, боль за них сопутствует радости Франциска. Здесь еще одно его отличие от мистиков средневековья. Франциск не только не один идет по мистическому пути познания Бога, увлекая за собой братьев-францисканцев, но также всей душой болеет за тех, кто по своей воле идти этим путем отказывается.
«Хвалы, прочитываемые перед каждым каноническим часом» составлены Франциском из Цитат Библии и литургических текстов, это характерный для Франциска способ написания текста. В этой лауде также отражается эстетическая позиция Франциска Ассизского: все, что сотворено Богом, прекрасно, сам же он «любое благо, высшее благо, все благо, никто не благ кроме Тебя одного…» [1. 210 – Laudes ad omnes horas dicen- dae]. Поэтому должно его восхвалять всем творениям, не только человеку, но и всякой твари [1. 210]. Эта же позиция выражена в «Призыве к восхвалению Бога» [1, 222 – Ex-hortatio ad laudem Dei], где восхвалять Бога должно и рекам, и небу, и птицам, и девушкам, всему, что дышит и живет.
Преобразование человеком природы и создание иллюзорного мира, вне божественного присутствия – есть причина зла, поэтому проповедническая деятельность францисканцев, начиная с самого Франциска и его первых последователей, сосредоточена в городах, где природа изменяется под руками человека самым непосредственным образом. Францисканский орден, созданный Франциском Ассизским – это альтернатива городскому социуму. Поэтому проблеме «реабилитации труда» в мировоззрении Франциска Ассизского свойственна дуалистическая окраска. Восстановление, реконструкция мира небесного на Земле – благо, преображение человеком этого мира в мнимый – зло.
Следует отметить, что возникновение идей францисканства – в частности – реакция на постепенный процесс секуляризации, проходящий в городской культуре. Несмотря на то, что начинает расти интерес к человеку как к самоценной личности, общество еще не готово к тому, чтобы посмотреть на самое себя, отвернувшись от Бога. Франциск Ассизский «отличался редким постоянством и не обращал внимания ни на что, что не было Господним» [2. 1Cel., XXVII, 72]. Иначе говоря, как человек, так и природа воспринимались им в плане всеохватывающего присутствия в мире Бога, но вместе с тем в мировоззрении Франциска Ассизского прослеживаются зачатки ощущения самоценности человеческой личности. Его мировоззрение несет в себе отпечаток «непротиворечивой противоречивости», присущей городской культуре.
Материал поступил в редколлегию 12.11.2007