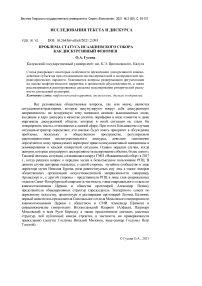Проблема статуса Исаакиевского собора как дискурсивный феномен
Автор: Гусева Ольга Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья раскрывает некоторые особенности организации дискурсивного взаимодействия субъектов при столкновении постмодернистской и модернистской мировоззренческих парадигм. Освещаются вопросы развертывания аргументации на основе мифологического нарратива и ценностной обусловленности, а также рассматриваются разноуровневые средства моделирования риторической реальности для целевой аудитории.
Мифологический нарратив, аксиологема, дискурс модернизма
Короткий адрес: https://sciup.org/146282265
IDR: 146282265 | УДК: 81’42 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.093
Текст научной статьи Проблема статуса Исаакиевского собора как дискурсивный феномен
Все резонансные общественные вопросы, так или иначе, являются ситуациями-аттракторами, которые аккумулируют вокруг себя дискурсивную напряженность: на волнующую тему начинают активно высказываться люди, входящие в ядро дискурса в качестве агентов, периферия в виде клиентов и даже маргиналы дискурсивной области, которые в иной ситуации не стали бы генерировать тексты, относящиеся к данной сфере. При этом в большинстве случаев ситуация-аттрактор определяет, кто именно будет иметь приоритет в обсуждении проблемы, поскольку в общественном пространстве, регулируемом закономерностями институционального дискурса, довольно однозначно определяется, кому принадлежит априорное право коммуникативной инициативы и доминирования в каждой конкретной ситуации. Однако нередки случаи, когда центров, которые индуцируют дискурсивное моделирование события, более одного. Таковой являлась ситуация, сложившаяся вокруг ГМП «Исаакиевский собор» в 2017 г., когда решался вопрос о передаче музея в безвозмездное пользование РПЦ. В данном случае центрами оказались, с одной стороны, музейное сообщество в лице директора музея Николая Бурова, ряда равностатусных ему лиц, а также лидеров общественных организаций искусствоведческой направленности (например, Архнадзор) и , с другой стороны – представители РПЦ в лице глав епархиальных отделов Санкт-Петербургской епархии (в частности, глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин), представители общецерковных структур (председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, первый заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков) и священноначалие (митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл), а также представители светских властных структур, чей публичный имидж строится, в частности, на приверженности православию (депутат Госдумы Виталий Милонов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой).
В рамках данного дискурсивного поля центры были наделены равным правом транслировать актуальную повестку, действовали на одном и том же участке информационного пространства общественной коммуникации, оба имели достаточно обширную (вполне сопоставимую по размеру) аудиторию сторонников и сочувствующих и, поскольку ситуация развивалась в меньшей степени как риторическая, эти центры не имели острой необходимости конкурировать между непосредственно собой, а потому в определенном смысле были вольны моделировать свое речевое поведение по своему усмотрению, лишь изредка оглядываясь на оппонента. При этом оба в большей степени были ориентированы не только на собственную целевую аудиторию, но и на более широкую общественность, то есть претендовали на то, что О.Л. Михалева обозначает как формирование коллективной когнитивно-аксиологической модели действительности [8: 14].
Несмотря на схожесть условий реализации дискурсивной практики центров, наблюдается значительная разница как в концептуализации ряда аспектов, так и в вербальном оформлении позиций сторон. Примечательность данной ситуации заключается в том, что эссенциальные причины, генерирующие ее специфику, не просто находятся в сфере экстралингвистического, а происходят из сосуществования в обществе двух мировоззренческих парадигм – модернистской и постмодернистской.
Так, православный персонализм, православный универсализм и экспансионизм [9: 100], отличающие современный православный дискурс, вынесенный за пределы его институциональности, можно считать следствием того, что православная общественная риторика до сих пор находится в модернистской парадигме в противовес преимущественно постмодернистским основам мировоззрения и соответственно практик светского общества, в связи с чем коммуникативные неудачи в попытках налаживания взаимодействия сторон имеют более фундаментальный характер и не сводятся к специфике личности или идиолекта тех или иных агентов дискурса.
Тотальный дискурс модернизма был возможен во многом по причине исходного доверия метанарративам, наличия унифицирующей сферы взаимно разделяемых референций, а также в силу отсутствия релятивизма, антииерархичности и предпочтительности аргументированного диалога, характерных постмодернизму. Постмодернистское сознание отторгает глобальные обобщения и традиционализм (в противовес живой традиции), оспаривает право коммуникатора транслировать смыслы в форме констативов и отстаивает свое право как на интерпретацию внешних стимулов, так и на смыслопорождение [7]. Полиморфность ризомного сознания постмодернизма не позволяет также рассчитывать на универсальность коммуникативных приемов, равно как и на эффективность попыток повлиять на мировоззренческую или мотивационную сферу адресата извне, особенно на основе внешней легитимации.
Представители стороны Музей стремились показать ситуацию как уникальную и требующую отдельного рассмотрения в прагматической плоскости с упором на статистические, исторические, искусствоведческие и финансовые данные, представители РПЦ – как типовую (храм возвращают верующим, этому закономерно противостоят антихристианские агенты влияния), укладывающуюся в рамки соответствующего стереотипа и более широко – мифа (в данном случае вслед за О.Л. Михалевой миф понимается как вневременная, устойчивая коммуникативная система, которая навязывает субъекту представления, принятые в социуме, с целью моделирования окружающей действительности [8: 13], а не как архаическое сакральное знание). Миф предлагает восприятие транслируемого им нарратива как стереотипичного, основанного на универсалиях, следовательно, не предназначенного для детального анализа и рационального рассмотрения, потому продуцирует такую же стереотипную предсказуемую реакцию. При этом мифологический нарратив в концептуальном измерении стремится к целостности, потому исключает диалектичность, противоречащие друг другу компоненты и все, что так или иначе может дать основание для альтернативной интерпретации. Противоположностью такого способа кодирования и передачи социальных смыслов является нарратив, стремящийся к полноте (в данной ситуации условно его можно обозначить как научный), приветствующий информационную насыщенность и дискуссионное рассмотрение вопроса. Так, музейное сообщество не обходило стороной вопрос дореволюционного статуса собора, вопрос о проводящихся в соборе богослужениях, вопрос возможности поиска консенсуса с РПЦ.
Мифологическая картина мира строится преимущественно на основе бинарных оппозиций, соотносящихся с противопоставлением категорий добра и зла [5: 36], что сообщает сознанию носителя довольно высокую степень ригидности и устойчивости к внешним воздействиям (противоречивая информация не допускается к рассмотрению, либо отвергается как заведомо ложная). Миф в определенном смысле удовлетворяет потребности своей целевой группы и поэтому напрямую коррелирует с ее базовыми ценностями, более того, конструирование социального мифа не осуществляется без включения аксиологической составляющей в нарратив, который транслирует значимые для целевой аудитории смыслы. При этом нельзя согласиться с авторами (например, О.Л. Михалевой, Ю.В. Шатиным), отказывающими современному социальному мифу в категории сакральности в силу его ориентации на массовую аудиторию. Справедливости ради, даже архаичный миф не во всех своих формах функционировал как нечто сродни disciplina arcani, иначе он не мог бы носить объясняющий и ориентирующий своего носителя характер. Сакральность переосмысливается и инкорпорируется в аксиологичность, получающую дискретное материальное выражение в частности в виде аксиологем, которые можно трактовать как разноуровневые языковые средства, вербализующие культурноспецифические ценностные категории [4: 133]. Ценностные смыслы как то, что подлежит воспроизведению в обществе на регулярной основе, активно вербализуются, поэтому косвенным признаком аксиологической нагруженности того или иного понятия может служить рекуррентность лексических единиц в тематическом поле [1]. Наличие оценочной семы в структуре аксиологемы возможно, но не обязательно, и если она присутствует, то не в денотате, а имеет коннотативную или прагматическую оценочность. Оценочное суждение не эквивалентно ценностному, в силу чего возможность верификации оценочных суждений не может быть экстраполирована на суждения ценностные, которые сохраняют значимость в глазах субъекта вне зависимости от соответствия формальным критериям истинности.
Как справедливо замечает Ю.В. Шатин, в ХХ веке мифология естественным образом трансформируется в идеологию, являясь объектом целенаправленного моделирования и обладая прагматикой, ориентированной на конкретную группу людей, которой символически противопоставлена другая группа [9: 102]. Исследователи православной религиозной идентичности в дискурсивном измерении О.А. Павлова и И.А. Юрасов также предпочитают прибегать к понятию идеологии в рассмотрении подобных коммуникативных комплексов. В том виде, в каком авторы понимают параметры идеологического дискурса, он имеет целый ряд пересечений с мифом, в частности, в том, что идеология также претендует на целостность и тотальность, характеризуется синкретичным соединением абстрактных представлений и диктуемых моделей поведения и представлений о нормативности [10: 98]. Авторы также отмечают, что среди основных топосов православного идеологического дискурса фигурирует неоконсерватизм и антисемитизм [10: 99], оговариваясь, что вышеперечисленное имеет статус ядерных топосов только в кругах довольно активных, но соотносящихся исключительно с меньшинством, а потому ограниченно представленных в общественном информационном поле. Тем не менее, в данном случае актуализация указанных топосов наблюдалась не только на периферии дискуссии. В качестве примера можно привести слова вицеспикера Госдумы РФ П. Толстого: « …люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».
Именно дихотомичность как мифологической, так и идеологической картины мира, а также агональный характер последней коммуникативно зачастую проявляет себя в виде резко критических высказываний в адрес субъектов и феноменов, находящихся за рамками группы «свой». Критика осуществляется через апеллирование не только к социальным, но также и к метафизическим представлениям о нормативности; таким образом, порицание оппонента строится на основе коллективной санкции и санкции со стороны надличностных образований одновременно [3: 324].
Несмотря на то, что статусно участники коммуникации равны, а сама коммуникация осуществляется формально на паритетных основаниях, идеологически ангажированное взаимодействие строится с понижением статуса оппонента, что санкционирует использование широкого спектра маркеров отчуждения, пейоративов, средств выражения оценочности, в том числе инвертированной, средств стигматизации и т.н. поливалентных комических образований, иллокутивная сила которых состоит в выражении отрицательной оценки объекта, комическая же составляющая носит подчиненный характер [2: 90] и служит прикрытием на случай обвинения в вербальной агрессии. При этом в рассматриваемом случае имеют место преимущественно эксплицитные формы, поскольку наличие массовой аудитории предполагает потенциально бесконечное количество вариантов интерпретации слов отправителя сообщения, что в случае с идеологически ангажированной коммуникацией адресанту не выгодно, потому что влечет за собой необходимость формулировок, редуцирующих альтернативы восприятия до ограниченного набора схем.
Сторонники позиции музейного сообщества изначально говорили только о судьбе музея (с четким описанием механизма поддержания его состояния и развития его как культурно-просветительского центра), никак не упоминали верующих и священноначалие, не упоминали мотивы инициаторов изменения статуса музея, а также не затрагивали вопрос об их поведении и моральном облике, и тем более, об их национальности и политической принадлежности. Такой status quo продержался достаточно долго, спорадические выпады в адрес представителей РПЦ стали появляться намного позже начала активной фазы противостояния и носили исключительно реактивный характер. Свою реакцию на то, как разворачивались события, музейное сообщество описывало как «непонимание и озабоченность» (см., например, Открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от коллектива СПБ ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор», интервью директора музея Н. Бурова). Музейные работники были предельно конкретны в формулировании своих опасений, представители РПЦ – предельно абстрактны, так или иначе апеллировали к идее «золотого века» и наличия внешних врагов (также не конкретизированных, что пресекает возможность критической оценки оснований дифференциации данной группы), например, « Потому что есть люди, которые хотят раскачать лодку… как шарманку крутят свою либеральную песню для того, чтобы показать, что у нас все плохо, что у нас происходит клерикализация, что Церковь захватывает все позиции» (митр. Иларион (Алфеев)).
Музей вышел на дискуссионную площадку с цифрами в руках, с готовностью структурированно и последовательно выразить суть своих опасений языком логики, прагматики и аксиологии, присущей своей сфере (искусство как ценность и народное достояние; консервация, реставрация и исследование). Со стороны музейного сообщества была представлена фактография (ссылки на высказывания исторических лиц и прецедентные документы, затраты в цифрах, нормативы, количество проведенных служб и посетивших службы и т.д.), в то время как со стороны представителей РПЦ – псевдофактография (расплывчатое « до революции », « историческая справедливость », т.е. максимально замаскированное апеллирование к вещам, фактически не имевшим место в прошлом). В современном мифе-идеологии символичность чистого мифа заменяется именно псевдофактографией, поскольку фактография, как и иные инструменты построения логической аргументации, не способны обеспечить легитимацию нарратива и актуализировать механизмы идентификации для массовой аудитории, руководствующейся преимущественно паралогикой: и мифологическое, и обыденное сознание современного человека синкретичны, вследствие чего не имеют устремленности к анализу, таким образом, обилие уточняющих деталей проигрывает маркерам, позволяющим слушателю при их распознавании воспользоваться гармонизирующей и упорядочивающей функцией мифа.
Отдельно стоит отметить тот факт, что обычные семантические оппозиции превращаются в мифологические, когда приобретают сакральный характер и аксиологическую окраску [6: 154], например, высказывание прот. А Пелина об интернет-голосовании: «Даже голосование по поводу передачи собора, которое показало, что якобы около 200 тысяч петербуржцев выступают против, проведено не на российском, а на американском сайте» вне контекста специфики дискурса, в рамках которого он оперирует, не имело бы дополнительных коннотаций в противопоставлении российской и американской площадок. Та же ситуация складывается вокруг употребления единиц, относящихся к знакам ориентации и имеющих терминологическую семантику. Так, крайне частотное в речи представителей РПЦ слово «либерал» и его производные в сознании целевой аудитории инициируют развертывание ценностной логики со всеми сопутствующими ассоциативно-смысловыми комплексами, и выступают в качестве инструмента стигматизации оппонента.
Сторонники позиции музея, по крайней мере, на официальном уровне, максимально придерживались стратегии обсуждения проблемы, а не ее участников, и предпринимали попытки предотвратить смещение дискуссии о прагматических вопросах в морально-этическую сторону, поскольку первый уровень рассмотрения с необходимостью требует конкретики, а последний может оставаться абстракцией и не вести к консенсусу. В качестве иллюстрации приведем выдержку из беседы К. Михайлова с прот. Л. Калининым в эфире «Эхо Москвы» 14.01.2017: « С точки зрения разумных людей, нет антицерковной направленности в подобных выступлениях, и я в этом уверен… Понимаете, вот всё, что я слышу пока, всё, что я вижу, - это некие предположения и заверения. А должен быть, на мой взгляд, документ очень подробный, концепция целая того, как этот объект будет функционировать, расписывающий всё по мелочам… мы не имеем права ставить эксперимент на объекте такого класса и на памятнике такого значения. Если мы передаём в другие руки другой «управляющей компании», то должен быть чёткий, ясный, понятный и одобренный, кстати говоря, экспертами план управления, предусматривающий все эти аспекты — от культурных и туристических до экономических» (К.Михайлов).
В беседе К. Михайлов неоднократно повторил свои тезисы, при этом примечательно, что в репликах прот. Л. Калинина чаще всего повторялись не развернутые сентенции, а средства риторической стигматизации оппонирующей стороны (но не собеседника лично): « шариковщина », « дикая шариковщина », « злоба » и « ненависть », « разграблен », « антирелигиозная пропаганда », причем в рамках ретроспективного рассмотрения и фактического уравнивания событий прошлого и их участников с событиями текущего момента: …Когда храм попал в лапы вот тех самых революционеров, потомки которых сейчас кричат, вопят и растягивают плакаты, к сожалению, никак ещё за 100 лет не отвлёкшись от этой кровавой вакханалии, — так вот что получается? Что храм-то был разграблен. Храм был реально разграблен! .„И как был разграблен? Самые лучшие вещи, святыни были вывезены… столько злобы, сколько я увидел в комментах вот этих в Интернете. Я просто был потрясён! Я удивлён был. „Просто реальная злоба и даже ненависть. Со стороны Церкви, слава Богу, этого никогда не бывает. Это бывает только с обратной стороны . Данный факт может объясняться, в том числе, включенностью в мифологический нарратив, в котором речь о прошлом ведется чаще всего не про прошлое, а про настоящее.
Изобилуют аргументы ad hominem, причем построенные на элементах, второстепенных для сути конфликта, как его видит музейное сообщество, и первостепенных для того, как конфликт видится радикальным и ультраконсервативным православным (« еврейская национальность », « либералы »,
« либеральная тусовка », « американский сайт », « узкий клан », « шариковщина », «б езбожники »); клишированные конструкции, приобретшие широкое хождение и статус почти ритуальных формул (так, сочетание « раскачивать лодку » употребляли как прот. А. Пелин и митр. Иларион (Алфеев), причем рекуррентно; « нива духовного возрождения России »); клишированность на стыке внутрицерковного канцелярита и языка официальной прессы советских времен, что одновременно выступает и как идентификационный знак, и как внушающий прием (А. Щипков: « твердыня православия снимает с себя иссохшую секулярно-музейную шелуху »). Наблюдаются также высказывания, построенные на одном из механизмов функционирования мифа, а именно распространении магических свойств вещи на все, к чему она условно причастна, хотя связь между ними далеко не очевидна, либо вовсе отсутствует (прот. А. Пелин: «... но нужно еще учесть, что Исаакиевский собор - это огромный, большой символ. Это символ возрождающейся России и правды, которая должна воцариться »; А. Щипков: «… передача положит начало христианизации всего социокультурного ландшафта России »). Наблюдается регулярное противопоставление добропорядочных сторонников смены статуса музея и своекорыстных противников, причем противникам приписываются только отрицательные черты, чтобы исключить сочувствие к их позиции. Причем указанные черты подаются не как ситуативные, а как сущностные характеристики оппонирующей стороны, что абсолютизирует и схематизирует ситуацию, мешая рассмотрению конкретики: « Музейное же сообщество печется о наживе… Это же нонсенс, когда храм находится в плену коммерсантов, которые именуют себя музейными работниками и просто зарабатывают деньги на эксплуатации здания! » (прот. А. Пелин), «… и сейчас подпеваете людям, вот этой шариковщине, которая считает только деньги в чужих карманах. Благо, что свои дырявые уже у них, потому что всегда эти люди нищие… На нас направлены прожектора общественности, государственных органов, вот этих шариковых потомков, внуков, правнуков и прочих, которые будут лаять, кричать, вопить всячески » (прот. Л. Калинин). Намеренно занижается социальная база противников смены статуса музея (прот. А. Пелин: « незначительная часть представителей либерально настроенной общественности, хотя даже общественностью их назвать трудно, скорее это либеральная тусовка »). Также широко представлена реинтерпретация активности оппонентов, в качестве иллюстрации приведем выдержки из высказываний прот. А. Пелина: « истерика »; « истерия »; « раздувается искусственно »; «Если кто-то хочет отстаивать проблемы узкого клана каких-то людей или какого-то сообщества, узкой прослойки сообщества, какого-то небольшого количества музейных работников, их там что-то порядка 90 человек ». При этом обращает на себя внимание намеренное или случайное оперирование некорректными цифрами: сотрудников в музее на момент обсуждаемых событий было 400, подписали открытое письмо президенту 322, и подлежали сокращению при изменении статуса музея 158 человек.
Неоднократно стороной РПЦ применялся риторический прием ухода от обсуждения вопроса по существу, отказ от конкретики в пользу аналогий (не касающихся фактографии) и образов: «Поэтому эта истерия "защитим собор", она выглядит провокативно. Почему? Потому что - "давайте защитим мед от пчел", "давайте защитим больницы от врачей", "давайте защитим библиотеку от библиотекарей", вернее даже книги от библиотекарей» (прот. А. Пелин). Достаточно частотными были также некорректные аналогии, редуцирующие проблему и меняющие угол ее рассмотрения: «Недавно, например, руководство московского метрополитена объявило о сокращении дежурных на эскалаторе. И это не 400 человек, а несколько тысяч! Где протестная демонстрация?!» (прот. А. Пелин) – сравнивается низкоквалифицированный персонал и персонал, который обладает эксклюзивными компетенциями, кроме того, узкая профессиональная ниша музейных научных работников ограничивает возможности их последующего трудоустройства, в отличие от сотрудников метрополитена (Союз музеев заявил, что большинство уволенных из музея «Исаакиевский собор» работу по специальности найти не смогут). Некорректные аналогии используются также для нагнетания негативных ассоциаций: «А, простите, разве сто лет назад было не то же самое? Разве товарищ Ленин из Швейцарии не те же самые прокламации к нам засылал? И давайте посмотрим, чем это все кончилось» (митр. Иларион (Алфеев)) – в качестве основы берется номинальное совпадение по критерию поляризации общества, но при этом игнорируется огромный комплекс факторов, которые предварили и составили одну и вторую ситуации соответственно.
Вопрос передачи ГМП «Исаакиевский собор» под контроль РПЦ, индуцировавший интенсивное текстопорождение со стороны самых различных участников от официальных лиц до обывателей, достаточно наглядно продемонстрировал проблемы социального взаимодействия, проистекающие не из сути резонансного вопроса, а из фундаментальной разницы столкнувшихся в общественном пространстве дискурсов: дискурса постмодернизма и дискурса модернизма. В рамках последнего регулярно воспроизводятся устойчивые мифологические мотивы, в современном обществе сращенные с идеологической составляющей, в связи с чем коммуникация приобретает дополнительные характеристики агональности и экспансионизма, а кроме того, наблюдается повышенная аксиологическая напряженность (в поверхностных структурах проявляется концентрированной представленностью аксиологем), возникающая за счет включения ценностной логики. Обе стороны представляют ценностные смыслы в семантическом пространстве причинности как на макроуровне организации текста, так и в локальных структурах, однако в рамках модернистской мировоззренческой парадигмы ценности включены в фатическую коммуникацию в противовес информативной, а также имеют императивный характер. При этом дихотомичность мифологических категорий накладывает свой отпечаток на речевые построения трансляторов. Так, ценности в парадигме модернизма укладываются в отношения бинарной оппозиции, что ставит наблюдателя-христианина перед лицом фактической безальтернативности, в то время как ценности, рассматриваемые в рамках дискурса постмодернизма, сами по себе не подаются в дискуссионном ключе, но предлагаются на рассмотрение и усмотрение адресата.
В целом, рассматривая данную ситуацию как дискурсивный феномен, следует принимать во внимание то, что, несмотря на значительную вариативность характеристик высказываний, связанных с личностью конкретного говорящего во всей его полноте от социальных характеристик до особенностей идиолекта, в дискурсивном пространстве сталкиваются не отдельные личности, а мировоззренческие парадигмы, детерминирующие подлежащие объективации идеальные категории и во многом – форму этой объективации.
Список литературы Проблема статуса Исаакиевского собора как дискурсивный феномен
- Виноградов С.Н. Аксиологический аспект словоупотреблений и текстовых повторов // Филология. Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 6. С. 265-269.
- Волкова Н.А. Дискурс-анализ как средство моделирования речевого жанра высмеивания // Культура как текст: Сб. науч. статей. Выпуск VI. М: ИЯ РАН; Смоленск: СГУ, 2006. С.89-95.
- Гусева О.А. Архетипическая модель идеологически ангажированной риторики порицания // Научные труды КГУ им. К.Э. Циолковского. Серия: Гуманитарные науки. Калуга, 2015. С.323-327.
- Казыдуб Н.Н. Аксиологические системы в языке и речи // Вестник ИГЛУ. Лингвистика дискурса. Иркутск: ИГЛУ, 2009. С.132-137.
- Пивоев В.М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. Петрозаводск: Карелия, 1991. 111 с.
- Притчин А.Н., Теременко Б.С. Миф и реклама // Общественные науки и современность. 2002. № 3. С. 149-163.
- Смит Дж. Церковь и постмодернизм. Как найти место в церкви Лиотару, Фуко и Деррида? Черкассы: Коллоквиум, 2012. 214 с.
- Советское как дискурсивный феномен: способы концептуализации прошлого / О.Л. Михалёва [и др.]; [под общ. ред. О. Л. Михалёвой]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. 249 с.
- Шатин Ю.В. Исторический нарратив и мифология ХХ столетия. // Критика и семиотика. Вып. 5. Новосибирск, 2002. С. 100-108.
- Юрасов И.А., Павлова О.А. Дискурсивное исследование православной религиозной идентичности. М.: ИНФРА-М, 2020.195 с.