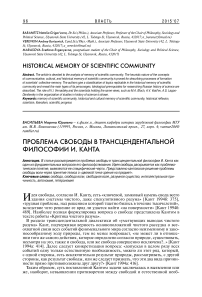Проблема свободы в трансцендентальной философии И. Канта
Автор: Васильева Марина Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 7, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема свободы в трансцендентальной философии И. Канта как один из фундаментальных вопросов его философствования. Идея свободы раскрывается как проблематическое понятие, выявляются ее специфические черты. Представлено кантовское решение проблемы свободы воли через принятие тезиса о «двоякой точке зрения на предмет».
Свобода, свобода воли, свободная воля, разумное существо, интеллектуальная причинность, автономия, гетерономия
Короткий адрес: https://sciup.org/170168037
IDR: 170168037
Текст научной статьи Проблема свободы в трансцендентальной философии И. Канта
Таким образом, суть поставленной Кантом задачи заключалась в выявлении или же, наоборот, невыявлении противоречия между свободой и естественной необ- ходимостью в одном и том же событии. Причем Кант подчеркивает, что проблема свободы есть проблема сугубо трансцендентальная, и предполагает трансцендентальное же исследование; и ни физиология, ни психология не должны пытаться ее решить. Речь идет о том, что понятие свободы представляет собой одну из неизбежных проблем чистого разума, благодаря которому, однако, понятия о Боге и бессмертии души приобретают свою объективную реальность и значимость.
Учитывая собственное деление на теоретическое и практическое применение разума, Кант утверждает трансцендентность понятия свободы для теоретического разума в том смысле, что в данном случае не происходит никакого расширения границ, никакого приращения знания. В теоретическом познании свобода остается именно проблемой, проблематическим понятием, которому не может соответствовать ни один объект возможного опыта, следовательно, под это понятие о свободе невозможно подвести никакое созерцание, хотя во всей совокупности идей чистого спекулятивного разума только лишь понятие свободы и способно на дальнейшее расширение в сфере сверхчувственного с позиций практического познавания.
Понятие свободы выступает в качестве чисто негативного принципа теоретического разума, отказывающего нам в познании своего предмета, но, тем не менее, оставляющего право мыслить о свободе, и мыслить без противоречия. Соответственно, если свобода представляет собой нерешаемую проблему для спекулятивного разума, то, возможно, следует взглянуть на нее с другой точки зрения, просто сменить перспективу? Кант, собственно, это и сделал, перенеся рассмотрение вопроса о свободе в плоскость практического применения разума. И для того чтобы, по выражению Канта, «спасти свободу», нужно «взяться за оружие» [Кант 1994б: 376], т.е. необходимо принять одну чрезвычайно важную предпосылку. Кант обозначил ее как «двоякую точку зрения на объект». Именно в ней Кант обнаруживает выражение «последовательного образа мыслей спекулятивной критики», ее величайшее преимущество и раскрытие самой «загадки критики». Эта аксиома достаточно проста, но при этом очень эффективна: необходимо различать вещи как явления, предметы возможного опыта и как вещи, которые существуют сами по себе.
Если этого различения не сделать и наделить явления «абсолютной реальностью», отождествить их с вещами самими по себе, то «свободу нельзя спасти» [Кант 1994а: 412]. В таком случае механизм природы со своей причинностью распространился бы на все вещи вообще как на действующие причины, и тогда свободу воли нельзя было бы мыслить без противоречия – как свободную и в то же время несвободную. Тем не менее Кант подчеркивает, что желает лишь показать принадлежность свободы к совершенно иному роду условий, чем естественная необходимость и возможность существования того и другого независимо друг от друга, но и без препятствий друг другу. Основное отличие их заключается в том, что если естественная необходимость есть свойство причинности всех лишенных разума существ, то причинность свободы есть вид причинности живых разумных существ. Кроме того, понятие причинности как естественной необходимости относится лишь к существованию вещей, определенных во времени, т.е. к явлениям. Это связь одного состояния с другим, предшествующим ему состоянием в чувственно воспринимаемом мире, при которой следование одного за другим обусловлено определенным правилом, т.к. рассудок в принципе не может допустить в сфере явлений ни одного условия, которое не было бы эмпирически обусловленным.
Причинность через свободу как второй род причинности, характеризующий определение вещей самих по себе, интеллектуальную, чувственно не обусловленную причинность Кант называет космологической свободой, или способностью совершенно самопроизвольно начинать ряд состояний. Космологическая свобода не заимствует ничего из опыта, и предмет ее не может быть определен посредством опыта. Это чистая трансцендентальная идея, идея спонтанности, то, что самостоятельно начинает действовать без какой-либо предшествующей причины. Космологическая свобода предполагает, что некое событие, даже не происшедшее, все равно должно было произойти и некий ряд событий должен был начаться совершенно самопроизвольно и безусловно. Космологическая свобода подразумевает факт первоначального действия, спонтанного начала, через которое происходит нечто, чего не было раньше, что само не есть результат чего бы то ни было, но порождает тот или иной ряд следующих друг за другом вещей или состояний. Дело только в том, писал Кант, чтобы «это можно превратить в есть» [Кант 1994б: 499], иными словами, продемонстрировать на фактическом материале конкретных случаев, что некоторые поступки предполагают такую интеллектуальную причинность.
Однако свобода в космологическом смысле есть только лишь трансцендентальная идея и обозначает независимость от всего эмпирического и от природы вообще. Хотя понятие практической свободы основывается на трансцендентальной идее свободы и удаление трансцендентальной свободы уничтожило бы и практическую свободу как таковую, тем не менее утверждение реальности свободы Кант отдает на откуп практическому применению разума. Свобода в практическом смысле понимается Кантом как независимость произведения действий от принуждения чувственности, т.е. обладание человеком способностью самопроизвольно определять себя без какого-либо принуждения со стороны чувственных склонностей. Однако же данная дефиниция опять-таки чисто негативна, позитивное толкование практической свободы предполагает определение деятельности собственным законом воли, предполагает автономию воли, ее самозаконность.
Кант критикует любые попытки разрешить проблему свободы на основании лишь эмпирических принципов, стремится «показать всю поверхностность эмпиризма» [Кант 1994б: 486]. Немецкий философ категорически против того, чтобы рассматривать рассуждения о практической свободе как только дополнительные «вставки», «стойки» и «подпорки» для восполнения пробелов и изъянов теоретического применения разума. Анализ понятия свободы в практическом смысле дает нам то необходимое звено, которое гарантирует связность всей системы; это обоснование реальности тех понятий, что в теоретической области были только проблематическими.
Особо же заблуждаются те, с точки зрения Канта, кто претендуют на объяснение понятия свободы в психологическом отношении и «хвастаются тем, что они его очень хорошо понимают» [Кант 1994б: 379]. Подобное заблуждение происходит из отношения к свободе как к психологическому свойству, которое изучают в рамках исследования природы нашей души. Так, например, называть «свободными» поступки человека только потому, что эти самые поступки порождены его собственными силами или желаниями или проистекают из неких внешних обстоятельств, все равно, что назвать «свободным» летящий камень или движущуюся стрелку часов. Для Канта это не более чем «жалкая уловка» мелочного педантизма, поскольку любые размышления о том, в субъекте или вне него заключаются определяющие основания его воли, имеют ли эти основания психологическую причинность или же механическую, в любом случае говорят лишь об определяющих основаниях причинности существа, находящегося во времени.
Но свободу нельзя понимать как произвол воли, подлинно свободный поступок не тождественен удовлетворению частной прихоти. Определяющим основанием свободной воли не может выступать материя, какое-либо эмпирическое условие как таковое. Каждое разумное существо должно мыслить свои субъективнопрактические принципы (максимы) также и в качестве всеобщих законов, т.е. отвлекаться от всякой материи (всего эмпирического, относящегося к чувству удовольствия-неудовольствия) и оставлять как определяющее основание своей воли одну лишь законодательную форму максимы. Поэтому Кант совмещает негативную и позитивную дефиницию свободы: теперь свобода представлена как независимость воли от всякого иного закона, кроме практического закона разумных существ, обладающих причинностью свободы.
Если же определяющим основанием нашей воли мы попытаемся сделать материю, некий желаемый нами предмет, то в таком случае наши поступки будут обусловлены эмпирическим содержанием; каждый поступок будет рассматриваться как определенный предыдущим. А так как то, что уже произошло, человеку больше не принадлежит, то и поступок его обусловлен чем-то, что ему неподвластно. Соответственно, он несвободен, и его причинность – не свобода. Попытки же приписать свободу существу, определенному во времени, равнозначны смешению явлений и вещей самих по себе, что делает само понятие свободы «никчемным и невозможным», «относительным».
Что Кант понимал под «относительной свободой»? Прежде всего, способность совершать действия, определяющее основание которых находится «внутри» действующего существа. В данном случае мы не можем говорить об идее свободы как основе морального законодательства и о сообразной с ним «вменяемости» поступков совершающему их субъекту. Это уже не «вменение» совершения поступка согласно высшему практическому закону, а есть то, что Кант обозначал как «механизм природы». Субъект же в таком случае оказывается не чем иным, как только материальным ( automaton materiale ) или же духовным ( automaton spiri-tuale ) автоматом, приводимым в движение материей или представлениями. Если мы соглашаемся на относительную психологическую свободу нашей воли, то «в сущности она была бы не лучше свободы приспособления для вращения вертела, которое, однажды заведенное, само собой совершает свои движения» [Кант 1994б: 490].
Следовательно, естественная необходимость есть гетерономия, «чужезакон-ность» действующих причин, и лишь свободной причинности разумных существ свойственна автономия, когда «воля есть во всех поступках сама для себя закон» [Кант 1994б: 226]. А быть «самой для себя законом» означает поступать только согласно такой максиме, которая может выступать также в качестве всеобщего закона. Кант делает ключевой вывод, что «свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, – это одно и то же» [Кант 1994б: 226]. Каждому разумному существу, обладающему волей, необходимо приписать также и идею свободы и руководство этой идеей, т.к. в таком существе мы мыслим практический разум, имеющий свою собственную причинность и свои собственные принципы. Поэтому «мы считаем себя в ряду действующих причин свободными для того, чтобы в ряду целей мыслить себя подчиненными нравственным законам, и после этого мы мыслим себя подчиненными этим законам потому, что приписали себе свободу воли…» [Кант 1994б: 230].
Таким образом, Кант связывает в одно целое идею свободы, понятие автономии и всеобщий принцип нравственности. Понятие же существа, обладающего и тем, и другим, и третьим, Кант обозначает как ноуменальную (интеллигибельную) причину, в противоположность субъекту как феноменальной причине, что снова возвращает нас к «двоякой точке зрения на предмет», только теперь и в распространении на субъект с его причинностью.
Разумное существо следует рассматривать принадлежащим не только к чувственно воспринимаемому миру, но и, в качестве интеллигенции, к миру интеллигибельному. С одной стороны, субъект должен рассматривать себя как подчиненного законам природы, а с другой – как подчиненного законам разума. В одном случае я обладет эмпирическим характером и как часть чувственно воспринимаемого мира совершет поступки сообразно с гетерономией природы. Во втором случае я обладает интеллигибельным характером и как член интеллигибельного мира совершает поступки согласно принципу автономии воли [Васильева 2011; 2013].
Относительно эмпирического характера – свободы нет, все поступки человека как явления находятся в нераздельной связи с другими явлениями согласно неизменным законам природы и заключены в единый ряд естественного порядка условий и следствий. Однако наш разум не есть явление и не подчинен условиям чувственности и временной последовательности; он представляет собой постоянное, не обусловленное условие всякого произвольного действия человека. Таким образом, любой поступок интеллигибельного характера, имеющий в основе чувственно не обусловленную (интеллектуальную) причинность, происходит свободно, без определения предшествующими основаниями. Любой же поступок эмпирического характера как принадлежащий чувственно воспринимаемому миру будет механически необходим и обусловлен.
Еще один важный момент, затронутый Кантом, касается противопоставления автономии воли не только гетерономии природы и любому нахождению во временном определении, но и Божественной воле. Если признать Бога как всеобщую первосущность и причину существования, то необходимо будет допустить, что поступки человека определяются тем, что всецело находится вне его власти, и зависят от причинности высшей сущности. И если в таком случае поступки человека, определенные во времени, стали бы приписываться не явлениям, а вещам самим по себе, то человек превратился бы в простую марионетку или в один из причудливых «автоматов Вокансона», «сделанный и заведенный высшим мастером всех искусных произведений», в своего рода мыслящий автомат [Кант 1994б: 494]. А это, в свою очередь, безусловно, лишало бы человека его права быть «господином самому себе» и обесценивало бы его человеческое достоинство, т.к. именно автономия воли есть основание достоинства человека и всякого разумного естества.
Человек как лицо, как моральная личность тем и отличается от вещи, что его поступки могут быть ему вменены и определяющими основаниями его воли выступает моральный закон. Понимание того, что есть моральная личность, Кант увязывает с понятием свободы и независимости от механизма природы: эта «внушающая уважение идея личности, показывающая нам возвышенный характер нашей природы» есть способность существа, которое подчинено чистым практическим законам, уникальным в той мере, в какой они даны ему его собственным разумом [Кант 1994б: 477-478].
Интеллигибельный характер составляет трансцендентальную причину эмпирического характера и в принципе нам совершенно неизвестен, кроме того, что эмпирический характер служит как бы его чувственным знаком. То, что можно однозначно утверждать об интеллигибельном характере, так это то, что он не определен никаким временным условием и в нем ни один поступок не может «возникнуть» или «исчезнуть». Интеллигибельный характер невозможно было бы познать непосредственно именно потому, что его интеллектуальная причинность не находится в ряду эмпирических условий, согласно которым происходит любое событие в чувственно воспринимаемом мире. Эмпирический характер, следовательно, составляет лишь явление интеллигибельного характера.
Поэтому каждым своим моральным поступком, каждым своим упорным продвижением по трудной стезе выполнения долга человек как бы приоткрывает завесу интеллигибельного мира, этого «прекрасного идеала всеобщего царства целей самих по себе», к которому мы можем принадлежать как разумные существа, руководствующиеся в своем поведении «максимами свободы, как если бы они были законами природы» [Кант 1994б: 245].
Таким образом, Кант возвращается к исходному «трудному пункту» вопроса о свободе – к возможности сосуществования свободной причинности и естественной необходимости в одном событии. Найденное в итоге Кантом решение обнаруживает без всякого противоречия в одном и том же действии свободу и природу, но взятые каждая в своем значении и в отношении либо к интеллигибельной причине, либо к чувственно воспринимаемой: «…и то, и другое могут существовать независимо друг от друга и не препятствуя друг другу» [Кант 1994а: 425].
Список литературы Проблема свободы в трансцендентальной философии И. Канта
- Васильева М.Ю. (2011) Идеализм Иммануила Канта. М.: Димитрейд График Групп. 276 с
- Васильева М.Ю. (2013) Учение о мире в диссертации И. Канта «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира»//Философские науки. № 10. С. 106-114
- Кант И. (1994a) Собрание сочинений в восьми томах/Под общей редакцией А.В. Гулыги. Т. 3. М.: Чоро. 741 с
- Кант И. (1994b) Собрание сочинений в восьми томах. Т. 4. М.: Чоро. 630 с
- Соловьев Э.Ю. (2005) Категорический императив нравственности и права. М.: Прогресс -Традиция. 416 с
- Kant I. (1900-1968) Kants gesammelte Schriften, hrsg.v.der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaft. Bd. 1-28. Berlin
- Bencivenga E. (2007) Ethics Vindicated: Kants Transcendental Legitimation of Moral Discourse. Oxford. 208 p
- Frierson P.R. (2003) Freedom and Anthropology in Kants Moral Philosophy. Cambridge. 221 p
- Guyer P. (2005) Kants System of Nature and Freedom. Oxford. 393 p
- Reath A. (2006) Agency and Autonomy in Kants Moral Theory. Oxford. 279 p