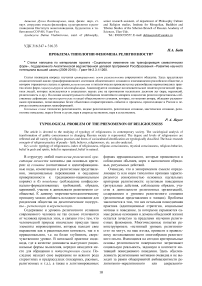Проблема типологии феномена религиозности
Автор: Бав Павел Анатольевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 14, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу изучения критериальных основ религиозности современного общества. Здесь представлен социологический анализ трансформационного состояния общественного сознания в изменяющемся российском обществе, в котором отражаются степень и уровни религиозности и типологически проявляется все разнообразие вероисповедных практик и/или форм социокультурной идентификации. Анализируются основные исследовательские понятия религиозной практики людей, которые используются в социальных науках уже на протяжении нескольких десятков лет (вера, верующий, религиозность и др.). На основе концептуального обобщения понятийного аппарата социологии религии представлены собственные дефиниции мировоззренческих позиций общественного сознания, которые, по мнению автора, обладают релевантными признаками, позволяющими более объективно охарактеризовать события и процессы, происходящие в России в периоды социокультурных трансформаций.
Типология религиозности, индекс религиозности, религиозное сознание, мистическое сознание, религиозное поведение, вера в богов и духов, вера в сверхъестественное, вера в естественное
Короткий адрес: https://sciup.org/148179299
IDR: 148179299 | УДК: 316.347+
Текст обзорной статьи Проблема типологии феномена религиозности
Очевидно, что в эмпирическом смысле определяющие ту или иную типологию признаки характеризуются совокупностью основных каузальных критериев религиозности: культовым поведением (ритуальные действия, соблюдение обрядов, участие в деятельности религиозных организаций), содержанием и уровнем религиозного сознания (религиозные представления и эмоции). Проблема заключается в том, что вся остальная повседневная практика (адаптационные стратегии, социальные мотивы и поведение, за которыми скрываются самые разные основания и домены обыденной жизни) остается зачастую за пределами изучения религиозных феноменов. Многочисленные попытки реконструировать «истинный уровень религиозности» не могут, на наш взгляд, привести к правильному истолкованию всего многообразия религиозного опыта. Имеющиеся на сегодня критериальные основы религиозности поверхностно затрагивают социальную реальность, заданную в контексте мотиваций повседневного поведения. Здесь обусловленность религиозными мотивами очевидна и не выходит за рамки общепринятой амбивалентности ре-лигиозного–нерелигиозного или сакрального- профанного. Кроме того, в теоретико-прикладном дискурсе всегда существует определенная опасность попасть под влияние какой-нибудь одной типологической модели религиозности, которая, по мнению исследователей, будет отличаться признаками релевантности и в большей степени способствовать обнаружению истины. Поэтому, когда мы изучаем религиозное сознание и поведение, являющиеся «стандартизированными упорядоченными системами значений» (Т. Парсонс), мы зачастую не концентрируем свое внимание на их социальных свойствах и значениях. И напротив, когда изучаем всю остальную внесакральную социальную практику, не пытаемся обнаружить в ней некие внешние религиозные признаки и зависимости.
Данные многих социологических исследований свидетельствуют о прямой зависимости между религиозными чувствами, сакральной практикой и повседневным образом жизни людей в политических, экономических, культурных и иных аспектах. Отмечается также, что на фоне религиозного ренессанса в нашей стране наблюдается поверхностный (и часто – эклектичный) характер религиозности [1]. На наш взгляд, в данных обстоятельствах непрекращающегося поиска адекватных инструментов изучения религии важно отказаться от радикальных установок дуализма и антиномий, признав, что феномен религиозности может являться неким социокультурным абсолютом и использоваться в социальных науках в качестве объективного начала. В зависимости от предмета исследования можно говорить и о том, какой «классификационный порядок» в данном случае будет наиболее адекватен исследовательской задаче.
Например, изучая конфессиональный партикуляризм, логично озадачиться разработкой релевантных типов религиозности, учитывающих степень этнонациональной, государственно-правовой или иной другой конфликтогенности, или о совершенствовании некой «типологии природной религиозности», построенной на психологоантропологических принципах иерархической структуры сознания. В свою очередь, адаптацию религиозной (православной, протестантской, мусульманской или иной другой) модели общества в условиях социальной трансформации целесообразно изучать при помощи категорий, включенных в созданную на такой случай типологию институционализированной религиозности. Если дело касается изучения различных форм религиозного самовыражения, объединяющих людей в религиозные общины или группы по профессиональным, творческим, священнодеятельностным, духовным, аскетическим и иным социокультурным признакам, эвристичным представляется комплекс понятий, относящихся к религиозной социализации, социокультурному развитию, и т.п.
В современном мире нетрадиционная религиоз-ность выступает как стойкий идеологический феномен светского общества. Некоторые ученые по- лагают, что за последние столетия в результате технического развития и формирования информационного общества возникли новые модернистские и постмодернистские формы духовной самодеятельности, и одним из последствий такой модернизации становится практика повального увлечения мистикой и оккультизмом [2]. Именно в кризисные эпохи, по мнению некоторых отечественных исследователей, усиливается тяга к мистицизму и метафизике (квазинаучному знанию), что расширяет типологический спектр духовных феноменов «в движении от традиционных религиозных верований, разделивших человечество на ряд локальных этнорелигиозных общностей, к некой глобальной и глобально профанированной псевдовере – виртуальной мистике» [3, с. 102].
Термин мистическое сознание может включать весь спектр повседневной идеационально-чувственной практики и носить универсальный характер. В этом смысле в основу теоретикометодологического анализа религиозности могут быть положены принципы изучения рационально -мифического сознания, поскольку человеку свойственно рационализировать мифические образы и предсказания применительно к повседневной витальной практике (в семье, на работе, во время отдыха и т.д.). Причем такой опыт бывает не всегда связан с привычными, традиционными религиями и вероучениями. Довольно легко обнаружить рационально-мифические принципы повседневности, наблюдая за действиями людей в определенных типичных ситуациях: застольный комменсализм (ритуально-демонстративное поведение), проводы в далекий путь («посидеть на дорожку»), сплевывание через левое плечо и поминание имени бога в аффектных и игровых ситуациях, украшение топоса обережными символами (подковой, ножом в косяке входной двери от сглаза и порчи), украшение тела оберегами (ношение крестиков и магических амулетов, мистические татуировки), украшение транспортного средства символикой религиозного смысла (иконками с изображением святых покровителей, буддистскими амулетами и проч.), использование молитвенных заговоров по случаю рождения, болезни, смерти, в брачных церемониях, и т.д. На наш взгляд, подобные проявления мифологического сознания выполняют своего рода компенсаторную функцию, выступая в качестве одного из действенных способов «исправления ошибок», совершающихся в процессе адаптации человека к стихийным силам природы и социальной реальности.
Согласно мнению Роберта Бэлла, важнейшая задача науки, изучающей религию, заключается в том, чтобы обнаружить и классифицировать симво-лические формы, из которых состоит феномен религии, а также «распознать, какими последствиями с точки зрения действия чревата приверженность им» [4, с. 117-118]. В этой связи, достаточный интерес вызывают религиозные и квазирелигиозные феномены, образующиеся в исторические периоды общественных трансформаций: постсоветский религиозный маятник (процессы секуляризации и религиозный ренессанс), кризисы теизма (П. Тиллих), демонстративное потребление (Т. Веблен), гражданская религия (Р. Белла), симулякры (Ж. Бодрийяр) - и др.
В отечественной социологии религии принято разделять понятия веры и ритуала, поскольку во многих религиях центральное место занимает не система верований, а ритуальное поведение: «Ритуальное действие является формой социально санкционированного символического поведения и в отличие от обычая лишено утилитарнопрактических целей». Но при этом «магический ритуал ориентирован прагматически - в большей степени на «материальный» результат, чем на ценности знакового порядка» [5, с. 96]. Конформное большинство, как правило, нуждается в религиозно-нравственных регуляторах своей повседневной деятельности. В процессе конструирования социальной реальности оно обращается к обычаям и нравам, которые помогают объективировать мир повседневности. Тем самым вырабатывается определенный когнитивный стиль, характерный для повседневности. У. Самнер определяет нравы как «социальный ритуал», в котором общество участвует бессознательно [6, с. 151].
Итак, что же может представлять собой типология феномена религиозности, применительно к условиям современного непрестанно изменяющегося общества? Сегодня можно выделить, на наш взгляд, три стихийные мировоззренческие группы, ситуационно возникшие в процессе исторического онтогенеза духовной картины мира. Эти группы ориентированы на определенные социокультурные ценности, самой главной и универсальной из которых является вера в естественное и сверхъестественное бытие. Мы типологизируем их по принципу трех основных универсалий веры:
-
1. Вера в богов и духов, а также в персонифицированные силы природы, посредством которой позиционируются трансцендентные ценности жизни после смерти. Диапазон такой веры охватывает все этапы развития культуры человеческого общества и колеблется от низших практик поклонения природным духам и богам до высших институционализированных форм религии;
-
2. Вера в сверхъестественное, через которую позиционируются трансцендентные ценности жиз-ни, окруженной неким мистическим смыслом и значением . Это состояние «транслитерации» или когнитивного перевода чисто религиозной веры (в общепринятом смысле) в квазинаучную (или метафизическую) форму;
-
3. Вера в естественное, с позиционированием экзистенциальных ценностей1 с доминантой витальных, посюсторонних диспозиций. Это вера в научные открытия и технический прогресс, в эволюцию, разум и интеллект2. Часто такие естест-венные верования и обряды направлены на узкоутилитарные цели.
Несмотря на логическую совместимость нашей системы с «тремя стадиями» О. Конта, между ними есть существенная разница - прежде всего, отсутствие в представленных смысловых категориях эволюционно-поступательного развития, который подразумевается в законах трех стадий . В нашем случае данные явления хорошо объясняются с позиции другой модели социокультурных динамических процессов - теории циклического развития. Причем каждая фаза развития у всех трех позиций веры может наслаиваться одна на другую, рядом идущую, или двигаться с ней параллельно. Возникает эффект мировоззренческого эклектизма. Переплетаясь в различных синкретических конфигурациях, эти фазы продуцируют на свет качественно иные витальные смыслы и иное социальное назначение человеческого существования. В целом каждая смысловая переменная в современном обществе представлена в виде «архетипической модели культуры» и, несомненно, наделяется религиозномагическими атрибуциями. Так, вера в богов и сверхъестественное является областью деятельности трансцендентной религии, действий религиозно-магических культов и ритуалов. Вера в естественное выступает как сфера деятельности гражданской религии, действий светских культов и ритуалов.
В контексте интереса к религиозной проблематике многие крупные социологи обращались и к изучению доинституциональных религиозных форм, усматривая в них эпифеномены всех остальных (в том числе современных) социальных явлений: права, морали, искусства, науки, политических форм и проч. Такое обращение давало ученому возможность изучить наиболее важные стороны религии в «чистом виде» без примесей конфессиональных детерминаций и теологического ангаже-мента3. Это позволило сделать вывод о том, что в принципе «все религиозно» (Э. Дюркгейм), и даже светские отношения, например, ребенка к своим родителям, патриота к своему Отечеству, члена общества к своей референтной группе - суть имеющие «один общий тон, который необходимо будет называться религиозным» (Г. Зиммель).
Следовательно, и наша типологическая система верований должна содержать некие значения, несущие признаки религиозности. Для всех указанных выше трех переменных веры подойдет, на наш взгляд, стандартный трехуровневый (низкий-средний-высокий) индекс религиозности:
-
1. Низкие значения признаков религиозности соответствуют индифферентному типу личности с признаками «инертной» самоидентификации. Пас -сивное меньшинство.
-
2. Средние значения признаков религиозности характеризуются наличием институциональных связей, структурированных организаций с устойчивыми внутригрупповыми нормами. Конформное большинство .
-
3. Высокие значения признаков религиозности , характеризуются наличием любых (конвенцио-
- нальных и внеконвенциональных) связей и харизматических групп, сущность которых заключается в непостоянстве их организационной структуры и зависимости от персонифицированной силы (харизмы лидера). Активное меньшинство.
На самом низком когнитивном уровне креативные созидательные (или разрушительные) силы личности практически отсутствуют. Социальная деятельность здесь размыта и не ангажирована религиозными символами. Поведенческие признаки характеризуются позицией «обывательства», поглощением «хлеба насущного» и каждодневным «отправлением нужд тела», полным отсутствием иных желаний. В сознании акторов (в социальных единицах действия) логически не определены когнитивные свойства религиозного мировоззрения.
В средних значениях религиозности допускаются верования как по номинальным внешним признакам соответствия (социальные группы и общности, основанные на формальном праве), так и по внутренним сенситивным ощущениям акторов (ин-дивидуальные мотивации). Не исключаются позиции « двойного сознания » или двоеверия4. Такой тип религиозности часто демонстрирует сочетание мифо - архаического мышления с биологическим витализмом . Действующие индивиды , социальные группы и общности , характеризуемые средними показателями , являются плодородной почвой для различных видов трансформаций , реструктураций и институциональных переходов .
Высший тип религиозности является культур -ным ядром, способным к созданию, аккумулированию и ретрансляции когнитивных и нормативных значений в уже подготовленную почву конформного большинства. В данном случае могут использоваться разнообразные способы суггестивной демонстрации превосходства собственного бытия или социальных идеалов. Сознание индивидов, наделенных высокими значениями по признакам религиозности, обладает широким диапазоном личностных диспозиций – от прогрессивных свойств (революционные брожения, стремление к переменам) до регрессивных (ретроградство, возврат к тради- ции или даже нигилизм).
Анализ основных понятий, используемых в современном социологическом дискурсе, показывает, что ни один из существующих на сегодня типологических конструктов религиозности и веры как основных составляющих религиозного сознания и поведения людей не лишен стратегических перспектив, обусловленных изменениями исторического контекста. Вместе с тем, социологическое знание, в «пространстве» которого размещены данные научные дефиниции, имеет часто тенденцию к определенным политическим ориентациям, мировоззренческим установкам, а главное к научноисследовательским парадигмам и школам, доминирующим на конкретный момент во «вселенной дискурса» (Э. Дюркгейм).
Процесс поиска идеальных типологических конструктов также детерминирован контекстуальными особенностями, и это неизбежно приводит к известному упрощению и дискретности оценки феномена религиозности, лишая его тем самым социетальной силы, которая способствует более глубокому пониманию и выявлению процессов, происходящих в современном обществе. Выход может быть найден в определении социально обусловленных особенностей религиозности, которая должна обладать особыми признаками и свойствами, скрытыми под социокультурными слоями повседневности.
В любом случае критерий религиозности необходимо, на наш взгляд, определять, прежде всего, через базисные аксиологические значения, концептуализированные в универсальных ценностных характеристиках религиозной и светской веры, т.е. веры в естественную и сверхъестественную ре -альности . Здесь релевантность того или иного типа веры обеспечивается за счет соотнесения с тремя формами знания (или убежденности в том, что «нечто есть истина»): религиозной, мистической и научной. В качестве критериального принципа оценки социального приложения религиозности и может быть использована предложенная трехуровневая модель религиозной активности.
Примечания
В данном случае подразумеваются ценности «атеистического экзистенциализма», которые к тому же не имеют ничего общего с экзистенциализмом, настраивающим людей против «безоглядной веры в науку и технику».
-
2 Ср. с понятием «философская вера» К. Ясперса, которая примиряет научные знания с религиозными убеждениями, от чего ее «субъективная и объективная стороны составляют целое».
-
3 Данный подход проявлен в трудах таких ученых, как: Э. Дюркгейм («Элементарные формы религиозной жизни»), У. Джеймс («Многообразие религиозного опыта»), Б. Малиновский («Магия, наука и религия») и др.
-
4 Например, в 1980-х гг. отечественные социологи выявили среди сотрудников московских научноисследовательских институтов значительное количество последователей традиционных и нетрадиционных религий, а также тех, кто разделял представления различных религиозных учений, веру в чародейство, формы гаданий, приметы, амулеты и другие суеверия. См.: [7].