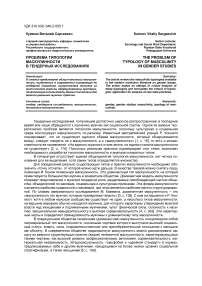Проблема типологии маскулинности в гендерных исследованиях
Автор: Куимов Виталий Сергеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор типологий маскулинности, выделенных в современной литературе по гендерной тематике, осуществлена попытка их критического анализа, сформулированы критерии, позволяющие использовать данные типологии для анализа реальных мужских практик.
Гендер, гендерные исследования, маскулинность, типология маскулинности
Короткий адрес: https://sciup.org/14938145
IDR: 14938145 | УДК: 316.032/.346.2-055.1
Текст научной статьи Проблема типологии маскулинности в гендерных исследованиях
Гендерные исследования, получившие достаточно широкое распространение, в последнее время все чаще обращаются к изучению мужчин как социальной группы. Одной из важных теоретических проблем является типология маскулинности, поскольку культурная и социальная среда конструирует маскулинность по-разному. Известный австралийский ученый Р. Коннелл подчеркивает, что не существует единого образа маскулинности, который обнаруживается всюду, следует говорить не о маскулинности, а о «маскулинностях» [1, с. 18], то есть о множественности ее проявлений: «Ни единого мужского стиля жизни, ни единого канона маскулинности не существует» [2, c. 179]. Поскольку реальная практика подтверждает этот тезис, возникает необходимость разработки типологии маскулинности и анализа конкретных типов.
В литературе отсутствует единая общепринятая типология маскулинности, нет четких оснований для ее выделения, хотя самих типов определяется множество.
Для определения реально существующих типов и практик маскулинности необходимо обозначить «точку отсчета», от которой можно идти дальше. В качестве таковой можно считать предложенную И. Коном гегемонную маскулинность. Это доминантный тип маскулинности, на который ориентируется большинство мужчин в конкретном обществе. Доминантная модель маскулинности отражает представления о мужской гендерной роли, разделяемые преобладающей частью общества, объединенной по расовым, социальным и культурным признакам. Эта форма маскулинности считается наиболее правильной и желаемой, при этом является наиболее жестко структурированной. По словам американского исследователя М. Киммела, доминантная маскулинность – это «маскулинность тех мужчин, которым принадлежит власть» [3, c. 138]. С ним соглашается и Р. Коннелл: хотя в любом мужском сообществе существует не один, а несколько типов маскулинности, на вершине иерархии обычно находится мужчина, для которого характерны утверждение мужской власти над женщинами и подчиненными мужчинами, культ физической силы, склонность к насилию, эмоциональная невыразительность и высокая соревновательность [4, c. 263]. Эти характерные черты и определяют принадлежность мужчины к доминантному типу маскулинности.
В традиционном обществе гегемонная (доминантная) маскулинность олицетворяла собой патриархальный тип маскулинности, основными чертами которого выступали высокий социальный статус, власть, сила, покровительственное или пренебрежительное отношение к женщине как объекту. В современном обществе традиционную маскулинность можно рассматривать как одну из реально существующих практик (видов) гегемонной маскулинности, характеризующуюся такими чертами, как высокий уровень профессионализма, автономия, соревновательность, материальная независимость, гетеросексуальность, гомофобия и «двойной стандарт» в нормах, предписываемых себе и другим мужчинам, находящимся на более низких уровнях социальной стратификации, а также женщинам [5, c. 169].
Наряду с гегемонной маскулинностью И. Кон выделяет «маскулинность соучастников», или «сообщническую» маскулинность [6, c. 93]. «Соучаствующая» маскулинность – этот тип маскулинности, который из-за недостатка сил или желания «не дотягивает» до вершины мужской иерархии. В иерархической системе общества принадлежность к «соучаствующей» маскулинности, несмотря на более низкий социальный статус и подчиненное положение, тем не менее позволяет пользоваться определенными социальными преимуществами.
Таким образом, по занимаемому месту в системе социальной стратификации можно выделить гегемонный (доминантный) и сообщнический (подчиненный) типы маскулинности, но совершенно очевидно, что для анализа реальной практики этого недостаточно, и вопрос о типологии по данному критерию остается открытым.
Для характеристики ведущего типа маскулинности в современном обществе С. Ильиных предлагает использовать понятие «естественная» маскулинность. Естественная маскулинность возникает под влиянием изменения гендерного порядка, в результате которого традиционная маскулинность трансформируется в естественную. Естественная маскулинность – это совокупность норм и представлений, которая отличается от «нормативных эталонов мужчинности» большей вариативностью моделей мышления и поведения мужчин, уходом от стереотипного образа «настоящего мужчины» к образу «естественного мужчины» [7, c. 104–105].
Естественная маскулинность может допускать такие немужские качества, как эмоциональность, признание за мужчиной права быть неуверенным, обеспокоенным будущим, возможность иного отношения к семье и детям. В естественной маскулинности принципиально допустим сдвиг с работы на семью в жесткой дихотомии «работа – мир мужчины, а семья – мир женщины». Современный мужчина достаточно успешно может справляться с ролью отца и домохозяина, а женщина – реализоваться в карьере. Для этого же типа маскулинности характерно иное отношение к власти: мужчина не обеспокоен тем, что не чувствует себя властным. В современном обществе меняется отношение мужчины и к своей внешности: посещение салонов красоты, использование косметических и парфюмерных средств и т. п. не осуждается, становится все более нормальным. Естественная маскулинность, таким образом, позволяет мужчине иметь и феминные черты. При этом естественная маскулинность не является ни кризисом маскулинности, ни «несостояв-шейся маскулинностью». Таким образом, современный гендерный подход в концепте маскулинности характеризуется динамикой – переходом от гегемонной к естественной маскулинности.
Эта, безусловно, интересная идея имеет, на наш взгляд, несколько «изъянов». Соглашаясь с необходимостью подчеркнуть динамику в развитии маскулинности, полагаем, что название ключевого термина представляется не самым удачным. Маскулинность представляет собой социальный конструкт, и использование предиката «естественная» (данная от природы?) вносит определенную дисгармонию в понимание общей конструкции. Речь идет о таких характеристиках маскулинности, как гибкость, вариативность поведения, допустимость феминных черт, которые формируются под влиянием изменившегося гендерного порядка. Кроме того, данный тип нуждается во включенности его в более широкий контекст наряду с какими-то другими типами, видами и т. п.
Для анализа маскулинности часто используется исторический критерий. Достаточно условно по этому критерию можно выделить следующие виды гегемонной маскулинности. В сословном обществе представителем данного типа является дворянин-аристократ, рыцарь, который в своих действиях руководствуется принципами сословной гражданской чести. Статус аристократа-дворянина предполагает некоторый набор прав и обязанностей, которые составляют кодекс чести настоящего мужчины данного сословия. Рыцарь и аристократ заботится о слабых, сиротах и вдовах, преклоняется перед женщиной, почитает и уважает «Прекрасную Даму», но для него возможна лишь внебрачная любовь.
В XIX в. гегемонным типом является джентльмен. Его основные черты – отважность, щедрость, уверенность в себе, независимость, образованность. Джентльмен всегда выполняет взятые на себя обязательства, готов прийти на помощь, женщина для него – «хорошая партия». Ж. Чернова в своем исследовании репрезентации маскулинности в российских мужских журналах 1990-х гг. пришла к выводу о том, что гегемонная маскулинность, характерная для буржуазного либерализма, становится эталоном и предписанием для «настоящих мужчин» современной России [8, c. 169]. Это свидетельствует об особой устойчивости характеристик гегемонной маскулинности, их незначительной трансформации в последующие исторические периоды.
В советском обществе представителем гегемонной маскулинности можно считать тип «отец». По мнению Е. Здравомысловой, «отец» – это настоящий мужчина, участник героической индустриализации страны и Великой Отечественной войны. Этот тип тиражировался советским кинематографом, литературой, искусством как положительный социально-антропологический тип. Позднее Ю. Левада реконструирует следующие черты этого социально-антропологического типа. Во-первых, представляя собой некоторое исключение, он существенно отличается от мужчин всех других обществ и времен. Его ценностная ориентация может быть названа государственно-патерналистской. Служение родине (государству) – его мужское призвание и долг, которые вознаграждаются, – он становится героем. Еще одна черта данного культурно-антропологического типа – способность к мужской дружбе в сочетании с готовностью подчинения, которую Левада называет «иерархическим эгалитаризмом». Она предполагает соединение жесткой субординации с этносом товарищества. Догматизм и нетерпимость – также типичные черты такого типа личности, которые в положительном варианте рассматриваются как верность принципам. Психологические черты этого типа мужчины производны от его основной военно-защитной функции [9, c. 441]. Именно «отец» является чистым культурно-антропологическим типом простого советского человека. «Отец» представлен такими реальными видами (практиками), как военный, солдат, спортсмен, государственный деятель, всегда занимавшими высокое положение в советской социальной стратификации.
По источнику влияния в научной литературе обнаруживаются следующие виды гегемон-ной маскулинности.
Дж. Кришнасвами, Д. Боярин, К. Мерсер выделяют диаспорическую маскулинность [11]. Источником ее формирования выступает определенная референтная группа (семья, мужское сообщество, друзья), оказывающая такое сильное влияние на мужчину, что он вынужден подчиняться независимо от своего желания. В современной России такой тип маскулинности встречается в ряде кавказских регионов. Мальчики воспитываются согласно строгим принципам традиционной маскулинности и не имеют права отступить от данной модели, подчиняясь родительскому и семейному авторитету.
И. Тартаковская называет еще несколько типов маскулинности, которые подпадают под данный критерий, – глобальную, транснациональную и фронтирную маскулинности [12]. Под глобальной понимается тип маскулинности, демонстрируемый персоналом транснациональных корпораций и финансовых организаций, обслуживающих международную торговлю. Представители глобальной маскулинности имеют не только неограниченный по протяженности рабочий день, но и специфические формы проведения досуга в виде обязательных для посещения корпоративных праздников, совместных поездок и прочих форм укрепления «трудовой солидарности» и «командного духа» персонала, что накладывает сильные ограничения на приватную жизнь [13]. Мужчины, которые работают на благо своей компании, жертвуя своей личной жизнью, в теории эффективного менеджмента выступают примером успешности.
«Транснациональная маскулинность» имеет некоторые особенности: акцентированный эгоцентризм, весьма ограниченную лояльность по отношению к корпорации и постоянное снижение ответственности за других людей (за исключением демонстрации лояльности и ответственности для создания нужного имиджа). Транснациональная маскулинность предполагает акцент на длительную карьеру, «трудоголизм» и приверженность профессиональным ценностям. Ее центральными моментами являются скорее рациональность и ответственность, чем амбиции и агрессивность [14].
Процесс завоевания сформировал специфический тип «фронтирной» маскулинности, совмещавший в себе черты профессиональной культуры с экстраординарным уровнем насилия и эгоцентрического индивидуализма [15]. Представители данного типа маскулинности готовы добиваться своих целей любыми средствами. Примером может служить «начальник-эксплуататор». Он заставляет своих подчиненных работать таким образом, чтобы при любом графике и виде работы цель была достигнута, при этом сам он может лишь руководить процессом, не принимая в нем никакого участия, находя в случае провала виноватых и наказывая их, тем самым стимулируя к более интенсивной деятельности остальных.
Достаточно часто в литературе описывается такой мужской тип, как метросексуал и некоторые его разновидности [16, c. 95]. Метросексуал – представитель городской субкультуры современного общества, молодой обеспеченный человек, живущий в мегаполисе или рядом с ним, потому что именно здесь находятся все лучшие магазины, спортивные залы и парикмахерские. Он может быть гомо-, гетеро- или бисексуалом, но это совершенно неважно, потому что истинный объект его ценностей, любви и сексуального удовольствия – он сам. Его привлекают определенные сферы – модельный и ресторанный бизнес, медиа, поп-музыка, спорт. Современные массмедиа поддерживают данный тип маскулинности, создавая образы мужчин, носящих брендовую одежду, обедающих в дорогих ресторанах, покупающих престижные вещи.
Одной из разновидностей метросексуала выступает юберсексуал [17, c. 130]. Юбер (Uber) обозначает «быть величайшим», «быть лучшим», что выражается в привлекательности (и не только физической) и неотразимости мужчины. Качества, которые определяют модель поведения юбер-сексуала, – страсть и стиль. Успех данного вида маскулинности заключается в том, что юберсексуал поступает так, как кажется правильным самому мужчине, а не из размышлений о том, каким он должен быть или что должен делать по мнению других людей. Основной ценностью для него является качество, которое должно присутствовать во всех сферах жизни, например в одежде: юберсексуал одевается для себя, а не для других, выбирая определенный стиль, а не то, что модно.
Разновидностью метросексуала является также эмо-мальчик [18, c. 126]. В связи с тем, что данный вид маскулинности появился не так давно, отношение к нему неодинаково. Основной ценностью эмо-мальчика является самовлюбленность, проявляющаяся через одиночество. Ему не нужна спутница жизни, ему хорошо одному. Находясь в одиночестве, он слушает музыку, читает книги, интересуется искусством, что свидетельствует о развитом интеллекте.
Для характеристики реальных мужских практик особый интерес представляет типология И. Тартаковской, которая выделяет явно «работающие» типы маскулинности: состоявшуюся, маргинализированную (промежуточную) и несостоявшуюся маскулинности [19, c. 161]. Автор данной типологии концентрирует свое внимание главным образом на маргинализированных и несостояв-шихся типах маскулинности. Единственным вариантом состоявшейся маскулинности является «брутальный мужчина», мужчина-мачо. Совершенно очевидно, что к состоявшейся маскулинности можно отнести и другие виды, для чего необходимы четкие критерии их выделения.
Маргинализированная маскулинность описывает статус мужчин, социальное положение которых зависит от их принятия и одобрения членами доминантной группы. Представителями маскулинности этого типа могут быть мужчины и мальчики из бедных семей или принадлежащие к этнически стигматизированным слоям – афроамериканцы, иммигранты и т. п. [20, c. 92].
К маргинализированной маскулинности можно отнести инвалидную маскулинность (дизаби-лити) [21]. Инвалид – физический или ментальный – обладает определенной амбивалентностью в глазах традиционного общества: с одной стороны, он воплощает нарушение норм телесности и низкий социальный статус, с другой – вызывает сочувствие вследствие своей уязвимости.
И. Кон к маргинализированному типу маскулинности относит протестную маскулинность, характерную для некоторых социально и этнически маргинализованных мужчин. Ее формы могут быть очень разными («белый супрематизм» в США или в Швеции, стремящийся к восстановлению власти белого человека, исламский терроризм Аль-Каиды, русский национализм типа РНЕ и т. п.), но все представители данного типа подают себя как борцов за возрождение истинно мужского начала в противоположность феминизированной, интеллектуализированной и гомосексуа-лизированной западной цивилизации [22, c. 95].
К этому же типу И. Кон относит романтическую маскулинность. Романтическая маскулинность допускала множество вариаций отношения к женщине: от фактического исключения ее из мужского сообщества до всеобъемлющей страстной любви (кстати, одно вовсе не противоречит другому). Она допускала много привилегированных сфер самореализации и предпочитаемых способов художественного самовыражения – достаточно посмотреть тексты песен Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Визбора, В. Егорова и А. Городницкого. В дальнейшем из нее вырастали очень разные по духу и стилю молодежные субкультуры. Их общность состояла в том, что, не будучи антисоветскими, все они были несоветскими, именно в этом была их притягательность, и за это их преследовали [23, c. 142].
Наряду с романтической маскулинностью можно встретить такое понятие, как «сенситивная» маскулинность [24], характеризующаяся чрезмерным проявлением чувств, а значит, и фемининности, что совершенно недопустимо для традиционной маскулинности.
К маргинализированному типу можно отнести и «чекистскую» маскулинность. «Настоящий мужчина» обязан заботиться о своих [25, c. 172]. Для массового сознания она привлекательнее бандитской и к тому же сопряжена с меньшими индивидуальными рисками. Под крышей «родной конторы» по ходу решаются и личные дела, недаром самые лакомые места в новых экономических структурах занимают чьи-то сыновья, зятья и племянники. Имея везде «своих людей», проще и удобнее работать. Данный вид маскулинности всегда присутствовал во многих сферах советского, а затем российского общества.
В условиях современного общества все больше говорят о так называемой гей-маскулин-ности [26]. К данному типу относятся лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Этот вид маскулинности всегда противопоставлялся гегемонной маскулинности. Неестественные сексуальные предпочтения мужчин, как правило, не принимались обществом и чаще всего преследовались как церковью, так и государством. Лишь в последние 30–40 лет в западных странах начали признавать данную модель мужского поведения, вплоть до легитимизации однополых браков. В России положение гей-маскулинности явно маргинализовано, поскольку российским обществом данная модель отношений не одобряется.
Несостоявшаяся маскулинность представлена наибольшим числом видов. И. Кон определяет несостоявшуюся маскулинность как подчиненную и зависимую, она характеризует мужчин, стоящих внизу гендерной иерархии [27, c. 92]. Одна из социальных предпосылок нереализованной маскулинности – отсутствие демократии и реального опыта свободы индивидуального выбора, что всегда было характерно для России [28, c. 167]. Особенностями нереализованной маскулинности (выученной беспомощности) являются, с одной стороны, усиление агрессивной маскулинности, с другой, склонность к фатализму, покорности судьбе.
Как подчеркивает И. Тартаковская, феномен «несостоявшейся маскулинности» даже применительно к людям, в той или иной мере затронутым социально-экономическим кризисом 90-х гг., ни в коем случае не является прямым его порождением [29, c. 163]. Возможность «несостоятельности» заложена в самом понятии маскулинности, предполагающем внутреннюю иерархию между «настоящими», состоявшимися мужчинами и теми, кто не смог соответствовать этому критерию.
Одним из видов несостоявшейся маскулинности является недостаточная маскулинность (гипомаскулинность) – мальчики, которые не сумели усвоить требования мужской роли и на всю жизнь остались неудачниками, «лузерами». С течением времени гипомаскулинность перерастает в такой вид, как «смирившиеся неудачники». Главная черта этого типа – открытое признание своего поражения в области профессиональной карьеры. Вину за свои жизненные обстоятельства возлагают не на себя, а на внешние причины, чаще всего – на государство.
Еще один вид – «несправедливо обиженные». Это мужчины, которые видят себя жертвой постоянных интриг, не позволяющих им самореализоваться. Они полагают, что все общество настроено против них. Основные силы уходят на борьбу с этими интригами. В том случае, если предоставляется возможность изменить свое социальное положение, «несправедливо обиженный» продолжает надеяться на его изменение, не предпринимая для этого никаких действий.
Кроме названных видов к несостоявшейся маскулинности часто относят «домохозяина», «алкоголика», «подкаблучника», «альфонса». Однако обоснованные характеристики и самое главное – критерии их выделения отсутствуют.
И. Тартаковская замечает, что современная версия несостоявшейся маскулинности связана не только с проблемами на рынке труда, но и с недостатком позитивных версий легитимного маскулинного сценария [30], поскольку традиционные критерии того, что значит быть «настоящим мужиком», существенно изменились.
На наш взгляд, данная типология является очень актуальной для анализа российских типов маскулинности и мужских социальных и гендерных практик, однако она нуждается в четком обосновании критериев выделения каждого типа и вида, а также их более глубоких характеристиках.
Ссылки:
-
1. Цит. по: Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М., 2009. 496 с.
-
2. Там же. C. 179.
-
3. Киммел М. Гендерное общество. М., 2006. 464 c.
-
4. Коннелл Р. Маскулинности и глобализация // Введение в гендерные исследования : хрестоматия. Ч. 2. СПб., 2001. С. 251–279.
-
5. Тартаковская И.Н. Гендерная социология. М., 2005. 368 с.
-
6. Кон И.С. Указ. соч. С. 93.
-
7. Ильиных С.А. Множественная маскулинность // Социс. 2011. № 7. С. 101–109.
-
8. Цит. по: Тартаковская И.Н. Гендерная социология. С. 169.
-
9. Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О муже(N)ственности : сб. ст. М., 2002. С. 432–451.
-
10. Тартаковская И.Н. Гендерная социология. С. 169.
-
11. Суковатая В.А. Гегемонная маскулинность и конструкции «другого» в американской массовой культуре // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 2010. № 894. С. 63–67.
-
12. Тартаковская И.Н. Маскулинность и глобальный гендерный порядок // Гендер как инструмент познания и преобразования общества : материалы междунар. конф. (Москва, 4–5 апреля, 2005 г.) / ред.-сост. Е.А. Баллаева, О.А. Воронина, Л.Г. Лунякова. М., 2006. С. 273–281.
-
13. Там же.
-
14. Там же.
-
15. Там же.
-
16. Зальцман М. Новый мужчина: Маркетинг глазами женщин. М., 2007. 350 с.
-
17. Там же. С. 130.
-
18. Там же. С. 126.
-
19. Кон И.С. Указ. соч. С. 161.
-
20. Там же. С. 92.
-
21. Суковатая В.А. Указ. соч.
-
22. Кон И.С. Указ. соч. С. 95.
-
23. Кон И.С. Указ. соч. С. 142.
-
24. Суковатая В.А. Указ. соч.
-
25. Кон И.С. Указ. соч. С. 172.
-
26. Суковатая В.А. Указ. соч.
-
27. Кон И.С. Указ. соч. С. 92.
-
28. Кон И.С. Указ. соч. С. 167.
-
29. Цит. по: Кон И.С. Указ. соч. С. 163.
-
30. Тартаковская И.Н. Мужчины на рынке труда [Электронный ресурс]. URL: http://www.nir.ru/sj/sj/sj3-02tar.html (дата обращения: 20.12.2014).
Список литературы Проблема типологии маскулинности в гендерных исследованиях
- Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М., 2009. 496 с.
- Киммел М. Гендерное общество. М., 2006. 464 c.
- Коннелл Р. Маскулинности и глобализация//Введение в гендерные исследования: хрестоматия. Ч. 2. СПб., 2001. С. 251-279.
- Тартаковская И.Н. Гендерная социология. М., 2005. 368 с.
- Ильиных С.А. Множественная маскулинность//Социс. 2011. № 7. С. 101 -109.
- Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе//О муже(М)ственности: сб. ст. М., 2002. С. 432一451.
- Суковатая В.А. Гегемонная маскулинность и конструкции «другого» в американской массовой культуре//Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 2010. № 894. С. 63-67.
- Тартаковская И.Н. Маскулинность и глобальный гендерный порядок//Гендер как инструмент познания и преобразования общества: материалы междунар. конф. (Москва, 4一5 апреля, 2005 г.)/ред.-сост. Е.А. Баллаева, О.А. Воронина, Л.Г. Лунякова. М., 2006. С. 273-281.
- Зальцман М. Новый мужчина: Маркетинг глазами женщин. М., 2007. 350 с
- Тартаковская И.Н. Мужчины на рынке труда . URL: http://www.nir.ru/sj/sj/sj3-02tar.html (дата обращения: 20.12.2014)