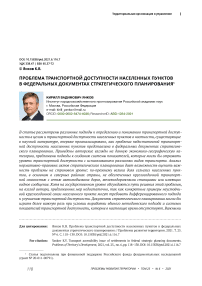Проблема транспортной доступности населенных пунктов в федеральных документах стратегического планирования
Автор: Янков Кирилл Вадимович
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Территориальная организация и управление
Статья в выпуске: 6 т.25, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены различные подходы к определению и пониманию транспортной доступности в целом и транспортной доступности населенных пунктов в частности, существующие в научной литературе, впервые проанализировано, как проблема недостаточной транспортной доступности населенных пунктов представлена в федеральных документах стратегического планирования. Приведены авторские взгляды на данную экономико-географическую категорию, предложены подходы к созданию системы показателей, которые могли бы отражать уровень транспортной доступности с использованием различных видов транспорта. Анализ нормативно-правовых актов стратегического планирования дает возможность оценить важность проблемы на страновом уровне: по-прежнему велика доля сельских населенных пунктов, в основном в северных районах страны, не обеспеченных круглогодичной транспортной связ ностью с сетью автомобильных дорог, железнодорожными станциями или имеющих водное сообщение. Хотя на государственном уровне обсуждаются пути решения этой проблемы, на взгляд автора, предложенных мер недостаточно, так как конкретные примеры неустойчивой круглогодичной связи населенного пункта могут требовать дифференцированного подхода к улучшению транспортной доступности. Документы стратегического планирования могли бы играть более важную роль при условии выработки единого методического подхода и системы показателей транспортной доступности, которые в настоящее время отсутствуют. Важными элементами единого методического подхода представляются уточнение критерия доступности по времени и дифференциация доступности для людей и для доставки грузов. Кроме того, важно уточнить категорию «населенный пункт». Сформулировано предложение по отражению проблемы в федеральных документах стратегического планирования. В стране не должно остаться ни одного населенного пункта, в котором не имеется доступа по автодороге с твердым покрытием, ни самолетом, ни водным транспортом, с приоритетом обеспечения доступа по автодороге.
Транспортная доступность, круглогодичная связь, населенный пункт, население, территория, перевозка пассажиров, транспортная сеть, стратегическое планирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147237335
IDR: 147237335 | УДК: 338.47
Текст научной статьи Проблема транспортной доступности населенных пунктов в федеральных документах стратегического планирования
элементами единого методического подхода представляются уточнение критерия доступности по времени и дифференциация доступности для людей и для доставки грузов. Кроме того, важно уточнить категорию «населенный пункт». Сформулировано предложение по отражению проблемы в федеральных документах стратегического планирования. В стране не должно остаться ни одного населенного пункта, в котором не имеется доступа по автодороге с твердым покрытием, ни самолетом, ни водным транспортом, с приоритетом обеспечения доступа по автодороге.
Транспортная доступность, круглогодичная связь, населенный пункт, население, территория, перевозка пассажиров, транспортная сеть, стратегическое планирование.
Транспортная доступность – важная экономико-географическая характеристика территорий и населенных пунктов, влияющая как на экономическое и социальное развитие, так и на качество жизни. По данным Е.В. Мельченко, около 10% населения России (14 млн чел.) отрезаны от круглогодичных транспортных коммуникаций [1]. Затрагивается эта проблема и руководством страны: так, Президент РФ В.В. Путин в ходе заседания Государственного совета 10 сентября 2018 года заявил, что «крайне важная и насущная для жителей Дальнего Востока задача – повышение транспортной доступности»2. Упоминание только Дальнего Востока определялось повесткой дня этого заседания, однако проблема остро стоит и во всей Арктической зоне, а локально встречается практически во всех федеральных округах.
Понятие «транспортная доступность» не имеет общепринятого толкования в научной литературе. Как отмечает А.В. Симанов, «в настоящее время существуют определенные проблемы, которые связаны с терминологией определения транспортной доступности с экономической и социологической точек зрения. На сегодняшний день отсутствует единая позиция в определении термина «транспортная доступность», также не существует общей методологии оценки транспортной доступности» [2].
В работе М.В. Иванова наиболее полно исследованы разные значения термина, сформулировано авторское определение «транспортной доступности как экономической категории, характеризующей степень удовлетворения потребностей в грузовых и пассажирских перевозках и включающей: стоимостную составляющую (тарифы на перевозки и уровень доходов населения), срочность, пространственное размещение объектов производственной и социальной инфраструктуры, технический уровень транспортных средств и коммуникаций, безопасность, комфортабельность, надежность и экологичность» [3].
Термин «транспортная доступность» часто используется в работах по градостроительству и транспортным комплексам городов (например, [4–6]), реже – в исследованиях, посвященных транспортным комплексам регионов [7].
Существует обширный круг литературы, затрагивающий математические методы определения транспортной доступности, при этом она понимается обычно как одно из свойств транспортной инфраструктуры на какой-либо территории. Например, в работе П.А. Лавриненко и соавторов транспортная доступность определяется «как возможность достижения какой-либо территории (в данном случае регионов Российской Федерации) с использованием транспортной инфраструктуры всех видов», а «транспортная доступность регионов определяется как доступность центров субъектов Российской Федерации» [8].
Более узкое значение имеет понятие «транспортная доступность населенных пунктов», которой также посвящен ряд исследований. Е.Б. Беднякова определяет транспортную доступность как «системный индикатор пространственных возможностей общества, реализуемый с помощью транспортной инфраструктуры, который оценивает конку- рентоспособность различных местоположений» [9]. Она же приводит данные о том, что «на территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает 1960 тыс. чел., около 40 тыс. населенных пунктов, или 26% их общего количества не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования». Комплексный подход к исследованию транспортной доступности населенных пунктов на примере Уругвая и Боливии представлен в работе В.О. Дубовика [10].
Интересен подход Э.С. Куратовой, которая, анализируя данные по Республике Коми, предлагает «показатель доступности как экономически целесообразные затраты времени на преодоление пространства» [11]. Спорным в предложенном подходе представляется то, что, следуя административнотерриториальному делению, она анализирует «показатели расстояния населенных пунктов до центров поселений, а их, в свою очередь, до центров муниципальных районов»; в то же время многие населенные пункты в стране, не имея непосредственного доступа к административным или муниципальным центрам, доступны с других территорий. Например, поселок Христофорово Кировской области доступен, в т. ч. от административного центра – города Луза, только через поселок Сусоловка Вологодской области. В свою очередь, доступ из Сусоловки в районный центр (г. Великий Устюг) возможен через реку Северная Двина с использованием паромной переправы, функционирующей сезонно, а круглогодичная наземная связь с областным центром Вологда – либо по железной дороге через Архангельскую область, либо по автодорогам через Кировскую область.
Иногда транспортную доступность населенных пунктов рассматривают с точки зрения обеспеченности общественным транспортом, в основном автобусным [12]. Однако на уровне федеральных документов стратегического планирования следует оценивать транспортную доступность с точки зрения обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры (автомобильными и железными дорогами, аэропортами и посадочными площадками, водными путями и причальными сооружениями и пр.), имея в виду, что их наличие – базовое условие наличия общественного транспорта. Организация движения (маршрутов, рейсов) общественного транспорта, в отличие от обеспечения транспортной инфраструктурой, не относится, на наш взгляд, к задачам стратегического планирования.
Отдельные авторы используют понятие «транспортная дискриминация населения» и предлагают методические подходы к ее измерению [13]. Однако представляется, что транспортная доступность населенных пунктов – более комплексное понятие, чем транспортная дискриминация населения. В посвященной ей работах, например в статье С.В. Егошина и А.В. Смирнова [14] речь идет о времени доставки людей, преимущественно воздушным транспортом. Однако жизнеобеспечение населенных пунктов не ограничивается только доставкой людей – необходимо доставлять транспортом товары, продукцию, обеспечивая как экономическую деятельность населения, так и его потребление.
Сложно оспаривать, что, как отмечает В.О. Юстратова, «существует прямая зависимость между транспортной доступностью, уровнем транспортной инфраструктуры и качеством жизни сельского населения» [15].
Помимо научной литературы, транспортная доступность населенных пунктов фигурирует и в нормативно-правовом акте – Методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства России3 (далее – Методика). В Методике применен коэффициент транспортной доступности субъекта Российской Федерации, при расчете которого учитывается «доля сельских населенных пунктов в субъекте Российской Федерации, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием и не обеспеченных связью с ближайшей железнодорожной станцией, морским или речным портом, аэропортом».
Низкий уровень транспортной доступности всегда признавался в России серьезной проблемой, однако долгое время (особенно в 60–80-х гг. XX века) приоритетным способом ее решения фактически считалась трансформация системы расселения с укрупнением населенных пунктов и ликвидацией тех из них, которые признаны «неперспективными». Отмечалось, что «находящиеся вдали от крупных городских центров и удобных транспортных путей поселения быстрее теряют свое население, чем пригородные» [16]. В наше время, когда стремление государства сселить «неперспективные деревни» в центральные усадьбы ушло в прошлое, количество населенных пунктов с низкой транспортной доступностью снижается в первую очередь благодаря не строительству коммуникаций, а оттоку населения с фактической, а затем и формальной ликвидацией таких населенных пунктов. Так, с 2002 по 2010 год, по данным переписей населения, количество сельских населенных пунктов в стране сократилось с 155289 до 1531244.
Важность стратегического планирования в решении проблем транспортной доступности подчеркивается многими авторами, например А.Н. Киселенко и Е.Ю. Сундуковым: «Необходимо, используя процесс стратегического планирования, построить транспортную сеть, обеспечивающую желаемую транспортную доступность территорий» [17].
В действующих федеральных документах стратегического планирования проблеме транспортной доступности уделено определенное внимание. Хотя проблема не упомянута в Стратегии пространственного развития, она нашла отражение в действующей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008
года № 1734-р5. В разделе Стратегии, посвященном оценке состояния и комплексным проблемам развития транспортного комплекса Российской Федерации, констатируется: «Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием более 10% населения (15 млн чел.) в весенний и осенний периоды остаются отрезанными от транспортных коммуникаций. Не имеют связи с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием 46,6 тыс. населенных пунктов, или 31% общего числа населенных пунктов. Население каждого из 260 таких населенных пунктов составляет более 1000 чел. Не завершено формирование опорной сети дорог в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока». «Не в полном объеме удовлетворяется платежеспособный спрос населения на перевозки. Не полностью обеспечиваются перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах, в т. ч. из-за ценовой недоступности (в первую очередь в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока)».
В рамках достижения цели 3 «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами» предусматривается:
– развитие в сельской местности автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающих населенные пункты постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования;
– прирост количества перспективных сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (при этом в Приложении 3 приведены значения количественного роста таких населенных пунктов);
– обеспечение перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в труднодоступных северных и восточных регионах, где он является безальтернативным и жизнеобеспечивающим.
Ежегодные доклады о реализации Транспортной стратегии, публикуемые Министерством транспорта России, содержат данные о фактическом приросте количества перспективных сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Согласно Докладу о реализации Транспортной стратегии за 2020 год при предусмотренном росте их количества с 2011 года (нарастающим итогом) на 2746 фактический рост оказался на 5,66% меньше6. Таким образом, за 10 лет количество сельских населенных пунктов, получивших постоянную круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, составило 2590 – всего 5,6% от 46,6 тыс. таких населенных пунктов.
В подготовленном летом 2021 года проекте Транспортной стратегии до 2035 года7, в отличие от действующей Стратегии, из раздела, посвященного оценке текущего состояния транспортной отрасли, исчезло упоминание о населенных пунктах, лишенных дорог с твердым покрытием. Лишь в разделе «Прогноз развития в сфере дорожного хозяйства» можно прочитать о «формировании круглогодичных автодорожных связей с удаленными регионами Арктической зоны Российской Федерации, Сибири и Дальнего Востока, в т. ч. для пионерного освоения территорий и ресурсов». Таким образом, акцент перенесен с населения и населенных пунктов на освоение территорий и ресурсов.
При этом тема транспортной доступности затронута в других разделах проекта Стратегии. Так, в разделе, посвященном воздушному транспорту, указано: «Критерии транспортной доступности должны формироваться с учетом исключения конкуренции субсидирования различных видов транспорта дифференцированно по регионам на основе исследования населенных пунктов с численностью постоянного населения выше порогового значения (порог устанавливается регионом с учетом его специфики) в целях выявления наличия всесезонной доступности наземным транспортом до ближайшего действующего аэропорта в течение времени, не превышающего порогового значения … в населенных пунктах, не обеспеченных необходимым уровнем транспортной доступности, планируется развитие местных дорог или строительство посадочных площадок (местных аэропортов)». В разделе о водном транспорте говорится о «создании линейки перспективных судов … для отдаленных регионов, не обеспеченных перспективными видами транспорта».
В разделе «Целевые показатели реализации …» проекта Транспортной стратегии никаких показателей, связанных с транспортной доступностью населенных пунктов, в отличие от действующей Стратегии, нет.
Определенное внимание рассматриваемой проблеме уделено в Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года8, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р (далее – Стратегия ДВиБР). Отмечено, что «около 1400 населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с опорной сетью автодорог». Говорится о «развитии автодорожной сети регионального и местного значения, что обеспечит рост транспортной доступности и повышение качества жизни в сельских населенных пунктах и малых городах».
В отношении отдельных территорий Дальнего Востока в документе поставлены свои задачи: так, в Республике Саха (Якутия)
«в период до 2025 года будут решены основные проблемы сокращения сезонности транспортной доступности территории»; «до 2025 года будут решены такие проблемы, как ликвидация сезонности в транспортной доступности территории Амурской области»; в Магаданской области «получат развитие местные воздушные линии и обслуживающие их местные аэропорты (посадочные площадки), обеспечивающие при государственной поддержке повышение уровня транспортной доступности удаленных районов области». Отмечено, что «в настоящее время 30 населенных пунктов Чукотского автономного округа не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог регионального значения (дороги с твердым покрытием)», однако актуальными признаны мероприятия, направленные не на снижение их количества, а на «повышение внутренней связанности наземной транспортной сети».
В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года9, утвержденной Указом Президента от 26 октября 2020 года № 645, о проблеме транспортной доступности прямо не говорится. Однако сказано о «низком уровне развития транспортной инфраструктуры, в т. ч. предназначенной для функционирования малой авиации и осуществления круглогодичных авиаперевозок по доступным ценам, высокая стоимость создания объектов такой инфраструктуры». В качестве мер, которые (хотя этого и не сказано) могут повлиять на улучшение транспортной доступности, предлагается «совершенствование механизмов субсидирования магистральных, межрегиональных и местных (внутрирегиональных) авиаперевозок», «строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в т. ч. в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях».
Таким образом, в разных стратегических документах транспортная доступность понимается по-разному. Даже в рамках од- ного документа – Стратегии ДВиБР – для Республики Саха (Якутии) и Амурской области проблему предложено решать с помощью строительства автодорог, а для Магаданской области – развития воздушного сообщения.
Это иллюстрирует степень расхождения значений термина, который в стратегических документах может означать: (1) физическую доступность для автомобильного транспорта (Транспортная стратегия, Стратегия ДВиБР для Республики Саха и Амурской области) либо (2) доступность для населения, использующего воздушный транспорт (Стратегия ДВиБР для Магаданской области).
При этом оба значения не совпадают с используемым в упомянутой выше Методике, но значение (2), благодаря учету воздушного транспорта, ближе к нему.
Рассмотрим подробнее критерий транспортной доступности с точки зрения действующей Транспортной стратегии – наличие связи с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием. Представляется, что именно этот критерий, а не критерий доступности воздушным транспортом, должен быть основным в федеральных документах стратегического планирования. Как отмечают А.С. Неретин и соавторы, «наличие автодороги с возможностью круглогодичного использования резко повышает транспортную доступность территории и способствует переходу пассажиров с воздушного на более доступные (с точки зрения затрат на поездку) виды транспорта: личный автомобильный, автобусный и рейсы частных перевозчиков» [18].
Следует отметить, что дихотомический подход (либо связь с сетью автомобильных дорог есть, либо ее нет) сильно упрощает ситуацию [19]. Автомобильные дороги могут иметь разрывы в виде водных преград без стационарных мостовых переходов, преодолеваемых с помощью паромного сообщения либо наплавных (понтонных) мостов. В период ледохода и ледостава такие переправы чаще всего не функционируют как автомобильные, но перевоз пассажиров при этом может обеспечиваться с использованием судов малого класса на воздушной подушке. В зимний период переправы для автомобилей могут функционировать по-разному: может устанавливаться понтонный мост либо организовываться ледовая переправа. В последнем случае разрыв сообщения в период ледостава может достигать значительных сроков: по воспоминаниям автора, 25 декабря 1997 года в Хабаровске ледовая переправа через реку Амур еще не открылась в связи с недостаточной толщиной льда (стационарный мост был построен позднее), при этом населенные пункты на разных берегах Амура имели устойчивую наземную связь по железной дороге.
Следовательно, вопрос наличия или отсутствия устойчивой круглогодичной наземной связи с каким-либо населенным пунктом каждый раз требует дифференцированного ответа. Во-первых, разная ситуация с доступностью складывается для автомобиля и для пешехода. Пешеход может пересечь водную преграду на судне малого класса, или пешком по ледовой переправе (ледовые переправы для пешеходов, в связи с менее жесткими требованиями к толщине льда, открываются обычно раньше автомобильных), или поездом. При этом поездом можно преодолеть не только водную преграду, но и иной разрыв в сети автомобильных дорог; так, например, для городов Воркута и Инта Республики Коми железная дорога является единственным видом наземного транспорта, при этом доступна и перевозка автомобилей в железнодорожных вагонах. Непонятно, относится фраза из действующей Транспортной стратегии о том, что «10% населения (15 млн чел.) в весенний и осенний периоды остаются отрезанными от транспортных коммуникаций»10, к автомобильной или пешеходной доступности; автору представляется, что все-таки к автомобильной, поскольку соответствующая статистика формируется из отчетности Росавтодора, не отвечающего ни за пешеходов, ни за железную дорогу. Однако и автомобильная доступность может быть разной: так, возможны ограничения по массе и нагрузке на ось для автомобилей (это характерно для мостовых переходов облегченного типа), что может привести, например, к доступности только для легковых автомобилей. Во-вторых, необходимо уточнить критерий доступности по времени. Например, проблема связи города Самара и находящегося на другом берегу Волги села Рождествено осложняется тем, что в зимний период в результате попусков воды на плотине Жигулевской ГЭС на льду Волги регулярно образуются торосы, мешающие не только организации ледовой переправы, но и курсированию малых судов на воздушной подушке. Таким образом, устойчивая связь для пешеходов может обеспечиваться не все 365 дней в году, а, скажем, 352 или 357. Если задать критерий максимальным – доступность 365 дней в году 24 часа в сутки (далее – 365/24) – то ему не будут удовлетворять даже территории, связанные с «большой землей» стационарными разводными мостами. Например, город Архангельск связан с левым берегом Северной Двины, куда сходятся все «внешние» автодороги, двумя разводными мостами, которые регулярно разводят, следовательно, город не является доступным в режиме 365/24. До недавнего времени (открытия Западного скоростного диаметра) таким же недоступным в режиме 365/24 был и Васильевский остров в Санкт-Петербурге. В свете изложенного представляется, что понятие «транспортной доступности населенных пунктов» может иметь разное содержание. Если вести речь о доступности только с использованием наземного (в т. ч. водного) транспорта, то прежде всего она зависит от способов наземного передвижения. Транспортная доступность для автомобиля и транспортная доступность для человека, меняющего виды транспорта (автомобиль, поезд, водное транспортное средство), – далеко не одно и то же. Если разнообразить способы передвижения человека (пеший переход; велосипед; верховая езда, актуальная для горных аулов Северного Кавказа), то видов транспортной доступности становится еще больше. Кроме того, она зависит от заданных временных режимов: режим 365/24 либо режим с допущением перерывов. Режимы с допущением перерывов могут кардинально различаться: от перерыва в несколько часов на период развода моста до перерыва на межнавигационный период, длительность которого зависит от погодно-климатических условий. Совсем по-иному определяется транспортная доступность с использованием воздушного транспорта. Во-первых, использование вертолетов делает доступным, наверное, почти любой населенный пункт (хотя теоретически можно представить себе такой, в котором рельеф не позволяет выбрать место для посадки вертолета). Во-вторых, воздушный транспорт (а особенно его вертолетный сегмент) требует значительно больших удельных затрат при эксплуатации, чем наземный. Представляется, что доступность воздушным транспортом в первую очередь необходимо оценивать не физическими, а экономическими характеристиками. Другим важным элементом понятия «транспортная доступность населенных пунктов» выступает определение объекта доступности. В действующей Транспортной стратегии таким объектом является либо человек (где речь идет о численности населения, отрезанного от транспортных коммуникаций), либо населенный пункт. При определении человека в качестве объекта транспортной доступности не все однозначно. В самом узком смысле объектом можно считать только место регистрации по месту жительства, но возможно и более широкое понимание: добавляются места временного пребывания и т. д. В целях практического применения более целесообразно рассматривать транспортную доступность применительно к населенным пунктам. Термин «населенный пункт» не имеет однозначного определения в федеральном законодательстве. Как отмечают А.Н. Киселенко и И.В. Фомина, «при всем многообразии толкований понятия населенного пункта (поселения), включая закрепленные законодательно, все определения сходятся в следующем: населенный пункт рассматривается как постоянное и/или сезонное место проживания на его территории населения» [20]. Представляется удачным определение из законодательства Архангельской области: «населенный пункт – часть территории … области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащая местом постоянного или преимущественного проживания людей»11. Важно подчеркнуть отличие населенного пункта от поселения: так, сельское поселение – это «один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов)»12. Представляется, что для определения транспортной доступности следует учитывать населенные пункты, указанные в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО)13. Трудности возникают, если населенный пункт состоит из частей с принципиально разной транспортной доступностью. Так, территория населенного пункта «город Архангельск» состоит из основной части на правом берегу Северной Двины и ряда островов. Некоторые из этих островов имеют значительное постоянное население, но мостов на них нет: Хабарка, Бревенник, Кегостров. Не имеет мостовой связи через Лену город Киренск Иркутской области, расположенный на обоих ее берегах. Такие транспортно-обособленные части населенных пунктов при изучении транспортной доступности должны выделяться из состава населенного пункта. Точное определение различных вариантов транспортной доступности поможет и выработке оптимальных мер по ее улучшению. В самом деле, иногда выбор нужно делать между строительством автодороги, строительством аэродрома или закупкой малых судов на воздушной подушке для обеспечения круглогодичной навигации. Типологизация таких ситуаций, критерии выбора возможных решений на основе экономического анализа должны быть в арсенале управления развитием транспортного комплекса во всех субъектах Федерации, где есть населенные пункты с недостаточной транспортной доступностью. Представляется, что на горизонте стратегического планирования в стране не должно остаться ни одного населенного пункта, недоступного ни для автомобиля, ни для самолета, ни для водного транспортного средства. При этом приоритетом должен пользоваться доступ по автодорогам с твердым покрытием.
Заключение
Задача повышения транспортной доступности населенных пунктов в настоящее время отражена в федеральных документах стратегического планирования фрагментарно и бессистемно. Транспортная доступность населенных пунктов, как и способы ее повышения, понимаются в разных документах по-разному. Попытка применения измеримого показателя транспортной доступности сводится только к доступности через связь с сетью автомобильных дорог общего пользования по автодорогам с твердым покрытием, хотя обеспечить такой связью все населенные пункты страны нереально. Необходимо на основе единого методического подхода закрепить в нормативных документах определения разных видов транспортной доступности: 1) через связь с сетью автомобильных дорог общего пользования по автодорогам с твердым покрытием; 2) с помощью воздушного транспорта; 3) с помощью водного транспорта; разработать систему показателей транспортной доступности для единообразного внедрения в профильные документы стратегического планирования федерального уровня (Транспортная стратегия, стратегии развития отдельных видов транспорта, стратегии развития макрорегионов), а затем и документы стратегического планирования регионов, в которых проблема актуальна (регионов с ограничениями по транспортной доступности). В документах стратегического планирования решение проблемы (особенно в отношении отдаленных и труднодоступных районов страны) видится в сочетании мероприятий по улучшению транспортной доступности всех трех видов. Снижение до нуля количества транс-портно недоступных населенных пунктов с приоритетным ростом доступных по автодорогам с твердым покрытием – реальная задача, которая должна найти отражение в федеральных документах стратегического планирования.
Список литературы Проблема транспортной доступности населенных пунктов в федеральных документах стратегического планирования
- Мельченко В.Е. Аспекты конвергенции знаний, технологий и общества в проблеме транспортной дискриминации населения России // Новая парадигма науки и образования: на пути к конвергенции знаний, технологий, общества: сб. науч. тр. по мат-лам I Междунар. науч.-практ. конф., 30 сентября 2017 г. / Международный научно-информационный центр «Наукосфера». Смоленск: Новаленсо, 2017. С. 96-104.
- Симанов А.В. Категория «транспортная доступность» и оценка эффективности транспортной инфраструктуры регионов // Общество и государство в зеркале социологических измерений (VIII Рязанские социологические чтения): мат-лы Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Рязань, 2018. С. 533-538.
- Иванов М.В. Повышение уровня транспортной доступности как фактор социально-экономического развития территорий / Науч. тр. Вольного экон. общества России по мат-лам XVI Всерос. конкурса науч. работ молодежи «Экономический рост России». М., 2013. Т. 172. С. 460-469.
- Виды транспортной доступности / В.В. Гребенников [и др.] // Изв. вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2012. № 1 (2). С. 56-61.
- Исаева Е.И., Аренина А.А. Повышение уровня транспортной доступности и качества транспортных услуг // Техническое регулирование в транспортном строительстве. 2020. № 3 (42). С. 194-199.
- Сидоров В.П., Ситников П.Ю. Транспортная доступность как показатель рациональной организации работы городского пассажирского транспорта // Вестн. Удм. ун-та. Сер.: Биология. Науки о Земле. 2017. Т. 27. Вып. 4. С. 547-553.
- Есикова Т.Н., Чепилов Д.А., Чураков А.С. Оценка транспортной доступности территорий: влияние формирования новых транспортных коридоров // Управление развитием крупномасштабных систем: мат-лы Третьей междунар. конф. (секции 4-6) / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. М., 2009. С. 62-64.
- Транспортная доступность как индикатор развития региона / П.А. Лавриненко [и др.] // Проблемы прогнозирования. 2019. № 6. С. 136-146.
- Беднякова Е.Б. Повышение уровня транспортной доступности населенных пунктов в Российской Федерации // Вестн. университета. 2011. № 26. С. 249-256.
- Дубовик В.О. Оценка транспортной доступности городов Уругвая и Боливии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: География. 2014. № 3. С. 57-63.
- Куратова Э.С. Методология оценки транспортной доступности территории по фактору времени для межбюджетного регулирования и распределения средств фонда финансовой поддержки муниципальных образований // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2017. № 2 (53). С. 96-104.
- Юстратова В.О. Оценка современного состояния транспортной доступности сельских населенных пунктов Калининградской области // Балтийский регион - регион сотрудничества. Регионы в условиях глобальных изменений: мат-лы IV науч.-практ. конф. Калининград, 2020. С. 134-140.
- Есикова Т.Н., Кожакина А.В. Оценка транспортной дискриминации населения регионов Азиатской России: разработка методического подхода и инструментария // Управление развитием крупномасштабных систем: мат-лы Восьмой междунар. конф.: в 2 т. / Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова; под общ. ред. С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна. М., 2015. С. 46-59.
- Егошин С.В., Смирнов А.В. Авиатранспортная доступность и транспортная дискриминация населения в субъектах Российской Федерации // Научн. вестн. Моск. гос. техн. ун-та гражданской авиации. 2018. Т. 21. № 3. С. 78-90.
- Юстратова В.О. Связь транспортной доступности и качества жизни в сельских населенных пунктах Калининградской области // Вестн. Балт. фед. ун-та им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 1. С. 41-48.
- Мазун Л.Н. Политика ликвидации неперспективных деревень в 1960-1970-е гг.: истоки, этапы, реализация, результаты (на материалах Урала) // Россия в XX веке: история и историография: сб. науч. ст. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 92-122.
- Киселенко А.Н., Сундуков Е.Ю. Исследование транспортной доступности территории Европейского и Приуральского Севера России на основе применения программно-целевого подхода и стратегического планирования // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т. 17. № 1. С. 34-49.
- Транспортная связность и освоенность восточных регионов России / А.С. Неретин [и др.] // Изв. РАН. Сер. географическая. 2019. № 6. С. 35-52.
- Бадина С.В., Панкратов А.А., Янков К.В. Проблемы транспортной доступности изолированных населенных пунктов Европейского сектора Арктической зоны России // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2020. Т. 26. № 1. С. 305-318.
- Киселенко А.Н., Фомина И.В. Опорная транспортная сеть в доступности населенных пунктов // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера - 2020: c6. ст. Седьмой Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием): в 2-х ч. Сыктывкар, 2020. С. 73-78.