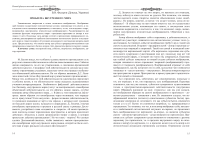Проблема внутреннего мира
Автор: Федоров Владимир Викторович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Теоретические проблемы
Статья в выпуске: 3 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
Эквивалентом творчества в статье полагается воображение. Воображающий человек осуществляет онтологическое усилие, изменяющее его самого, и последствия этого изменения выражаются, в частности, в том, что возникает «мир», являющийся «внутренним» относительно воображающего. Рассматриваются две основные функции «внутреннего мира»: отрешения персонажа от автора и изоляции от него. Поскольку цель автора состоит в преодолении превращенного состояния, рассматривается проблема соотношения поэтического целого и внутреннего мира и ставится вопрос об условиях возможности достижения автором своей цели. Предполагается, что именно автор как субъект превращено-языкового или превращено-словесного бытия должен стать предметом филологического знания.
Внутренний мир, событие, творчество, воображение, автор, персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/14914398
IDR: 14914398
Текст научной статьи Проблема внутреннего мира
М. Бахтин писал, что «событие художественного произведения» есть результат слияния события жизни и события повествования о нем. Событие жизни совершается, по его же утверждению, в «жизненно-прозаической действительности». Специфике этой действительности уделяли мало внимания, ограничиваясь указанием, насколько точно она отражает особенности объективной действительности. На это обратил внимание Д.С. Лихачев в известной статье «Внутренний мир художественного произведения»1. Между тем, особенности этой действительности существенно определяют и событие жизни, и это обстоятельство также оказалось недооцененным учеными-литературоведами. Особенности фабульной действительности (по Лихачеву, «внутреннего мира») могут не воспроизводить своеобразия объективной действительности, на что обратил, можно сказать, сугубое внимание автор «Внутреннего мира...». В связи с этим появляются два вопроса: каким образом эти своеобразные черты возникают; чем оправдано их присутствие? Если искусство - форма познания действительности, то очевидное искажение ее черт в том зеркале, с которым идет художник по большой дороге жизни, нуждается в оправдании. Д. Лихачев, отмечая своеобразие пространства и времени в русской сказке и романах Достоевского, употребляет слова «создавать» и «творить». «В своих произведениях писатель создает определенное пространство, в котором происходит действие»; «Писатель в своем произведении творит и время, в котором происходит действие произведения»2. Но что такое - творить? Что должен сделать Достоевский-писатель, чтобы появилось «вязкое пространство» как своеобразная черта внутреннего мира романа, которой не было соответствия в мире, реальном для самого Достоевского?
Д. Лихачев не отвечает на этот вопрос, но важность его очевидна, поэтому избегнуть ответа на него не удастся. Мы полагаем, что эквивалентом высокого слова «творить» является обыкновенное слово «воображать». Но вопрос, конечно, остается: что делает человек, когда он воображает? - В общем виде на него можно ответить так: он осуществляет онтологическое усилие, изменяющее его самого, и последствия этого изменения выражаются, в частности, в том, что возникает «мир», являющийся «внутренним» относительно воображающего. Обратимся к подробностям.
Автор обычно воображает себя в персонажа, а действительность, в которой он существует, появляется как онтологическое условие этого существования. Акт (вернее, событие) воображения требует двух стадий для своего осуществления. В первой - предварительной - автор и персонаж соотносятся как творящий и творимый. Такой тип связей и отношений символизируется вертикальной чертой. «По вертикали» персонажа как субъекта своего суверенного существования еще нет, поскольку еще нет той онтологической сферы, в которой оно могло бы совершаться. Персонаж как особый субъект появляется во второй стадии события воображения, которая начинается актом отрешения: творящий (воображающий) отрешается от творимого (воображаемого). Воображающий отрешает от себя воображаемого, как бы исторгает его из себя, вследствие чего появляется «внешнее» и - как его антипод - «внутреннее». Внешнее конкретизируется как пространство и время. Пространство и время учреждают горизонтальный тип связей и отношений.
Акт отрешения есть, собственно, акт самоотрешения, поскольку и тот, кто отрешает, и тот, кто отрешается, есть воображающий. Персонаж становится, как мы уже сказали, субъектом суверенного существования только в пространственно-временной действительности (внутреннем мире). Обращаем внимание на одну «тонкость»: как мы уже сказали, акт воображения обращен на самого воображаемого и производит - довольно радикальные - изменения с ним. Из сказанного следует, что воображающий является (остается) единственным субъектом бытия; происходящие изменения не «отменяют» его как субъекта бытия, изменяется только способ бытия: он становится непрямым, те. превращенным и отрешенным. Это означает, что тот, в кого автор воображает себя, находится в двойственной онтологической ситуации: во-первых, он продолжает быть воображающим (по вертикали); во-вторых, он является субъектом своего - жизненно-прозаического - существования (по горизонтали). Персонаж есть субъект суверенного существования по отношению к другому персонажу (по горизонтали, те. в пределах внутреннего мира); по отношению к автору (по вертикали, те. в пределах целого) он есть автор в его онтологически актуальном отрешенном состоянии. Отрешенное состоя- ние автора является, однако, его действительным состоянием, вследствие чего он и становится «фабульным персонажем», те. субъектом жизненного существования. По горизонтали (по отношению к Ленскому) Онегин есть Онегин, по вертикали (по отношению к Пушкину) он есть Пушкин в его отрешенном состоянии.
Пространственно-временная действительность, с одной стороны, является бытийным условием для существования персонажа. Являясь «нормальным», онтологически оправданным в пределах фабульной действительности, это существование есть, с другой стороны, следствие отрешения автора от себя самого, те. недолжным для него, онтологически болезненным состоянием. Внутренний мир, таким образом, осуществляет, во-первых, отрешающую функцию. Во-вторых, пространство и время изолируют персонажа от автора. Причем пространство и время не располагаются между автором и персонажем; то, что является органом существования персонажа, те. тело, осуществляя онтологическую функцию, осуществляет вместе и изолирующую функцию. Автор в своем отрешенном состоянии (фабульный персонаж) «забывает» о себе как авторе и полагает себя как субъекта жизненного существования. И «вспомнить» о себе как авторе он не может, это сделать ему не позволяет его онтологический статус, актуальный в действительности фабулы.
Поставим следующий вопрос: кто является субъектом воображения? Несколько заостряя этот вопрос, можно задать его так: кто может быть субъектом воображения? - Д. Лихачев, кажется, уже ответил на него, когда утверждал, что писатель творит как пространство, так и время; он и совершает то онтологическое усилие, нужное для того, чтобы появился «внутренний мир». Действительно, писатель может быть воображающим. Он обладает теми онтологическими данными, которые ему позволяют осуществить акт воображения и совершать свое бытие в качестве воображающего.
В книге «Философия искусства» немецкий эстетик и искусствовед Бр. Христиансен пишет: «Внешнее произведение, которое находится перед нами в пространстве - вот эта высеченная глыба мрамора или раскрашенное полотно - дает лишь побудительный толчок и отсылает нас к тому, к чему непосредственно относится суждение и ценности»3. Автор, к сожалению, только указал на факт, не поставив вопрос о его причине, что и позволило ему совершить ошибку, благодаря которой он ввел в науку об искусстве понятие об эстетическом объекте. Ближайший вывод, следующий из факта, указанного Бр. Христиансеном, состоит в том, что пространственно-временная сфера онтологически ограничена. Она может осуществить далеко не все, что ставит перед собой человек. Так, например, она не в состоянии осуществить ту величину, которая производит на
нас эстетическое впечатление. Причина, на наш взгляд, состоит не в недостаточности у нее онтологического потенциала, а в т и и е ее организации. Будучи сферой существования телесных субъектов (физических, растительных и животных), она является однопланной; тип ее организации определяется как тектонический.
Субъект воображения должен быть по меньшей мере двупланным существом, поскольку он включает в свою организацию жизненно-прозаическую действительность - особый онтологический план. Будучи многопланным существом, воображающий организован архитектонически. Естественно, что тектонически организованная пространственно-временная сфера не может осуществить архитектонически организованного субъекта, каким является автор. Более отдаленный, но более значимый вывод состоит в том, что субъект воображения - другое существо, чем жизненный субъект. Поскольку акт воображения все же состоится, приходим к выводу, что помимо тектонически организованной пространственно-временной сферы существует архитектонически организованная сфера, не являющаяся телесной, следовательно, воспринимаемой. В пространстве и времени существует жизненно определенный субъект, которого мы называем Пушкиным или Гоголем. Вне пространства и вне времени существует воображающий (автор), которого мы тоже называем Пушкиным или Гоголем, но которые не являются жизненными существами. Воображающий и субъект жизненного существования, будучи суверенными существами, соотнесены друг с другом и образуют онтологическую общность, которой целесообразно присвоить бахтинский термин «целое человека». Таким образом, человек - «единое в трех лицах»: целое человека, воображающий, который, как мы полагаем, и есть собственно человек, и субъект животного существования, который как таковой человеком не является, однако онтологически к нему причастен. Здесь возникает проблема человеческой формы: если человек существует не в жизненной (биологической) форме, то в какой форме он все-таки существует? - Эта проблема не является актуальной для данной статьи, поэтому мы только ответим на поставленный вопрос, не обсуждая проблему человеческого существования как самостоятельную. Собственно человек как составляющая целого человека осуществляется в двух формах - языковой (ординарный случай) и словесной (исключительный случай). Поэт и есть такое исключение.
Бр. Христиансен в своем сочинении пишет, что «интерес человека, воспринимающего создание искусства, бесспорно направляется прежде всего на предметное, первый вопрос перед произведением всегда относится к предметному ориентированию: что оно изображает?»4. Мы полагаем, что автор является не менее интересным предметом для человека. Конечно, мы не ставим цель переориентировать читателя с менее интересного предмета на более интересный. Он вовлечен в бытие автора, осуществляется в формах, в которых совершается бытие автора, и эта - онтологиче- ская - перспектива является главной. Мы полагаем, что автор как субъект превращенно-языкового или превращенно-словесного бытия должен стать предметом филологического знания. Филология, таким образом, обретет свой настоящий предмет, а человек обретет настоящую форму познания.
Переходим к воображающему. Во-первых, следует сказать, что, будучи внепространственным и вневременным, он является внетелесным. Мы встречаемся с такой ситуацией, когда тела нет, а субъект бытия есть. Парадокс состоит в том, что мы не можем утверждать, что эта ситуация нам совершенно незнакома по нашему онтологическому опыту; напротив, она нам известна так же, как и ситуация жизненного существования, поскольку как языковые существа мы онтологически активны не менее, чем как субъекты жизненного существования, но форма этой активности другая, и ее своеобразие как раз и состоит в том, что она, осуществляясь во внетелесных формах, оказывается недоступной восприятию. То, что мы считаем «высказыванием», субъектом которого является жизненно актуальное существо, на самом деле есть маленькое или значительное по объему событие бытия воображающего. Это событие трансформируется в двух пространственно-временных сферах: во-первых, в действительности автора как жизненного существа; во-вторых, в жизненно-прозаической действительности фабульного персонажа. В жизненной действительности Пушкина как биографического лица она трансформируется во «внешнее произведение» - акустическое событие или последовательный ряд графических значков; в жизненной действительности Онегина событие бытия Пушкина трансформируется в событие жизни, формирующееся совокупными усилиями действующих лиц, а также онтологическим своеобразием этой действительности. И акустическое событие, и событие жизни изоморфны событию поэтического бытия Пушкина-автора. Своим онтологическим своеобразием внутренний мир обязан онтологическому своеобразию автора. Вот почему Достоевскому-автору не нужно было специально заботиться о том, чтобы сотворить пространство, которое было бы «вязким» (в рабочих тетрадях Достоевского мы не встретим записи о такой цели).
Во-вторых, в описываемой ситуации мы встречаемся с весьма определенно выраженным феноменом онтологической относительности. В границах фабульной - жизненно-прозаической - действительности читатель воспринимает какой-нибудь фрагмент события жизни, более или менее значительный по какому-либо основанию, хотя это совсем необязательно. В событии бытия автора, в котором событие жизни выступает в качестве практической формы его свершения, событие жизни осуществляется вполне, те. от ситуации происхождения пространственно-временной действительности (внутреннего мира) и начала события жизни до завершения события авторского, те. превращенного и отрешенного, бытия, когда

автор преодолевает свою превращенность и становится субъектом непосредственно словесного бытия. Поэта интересует не та или иная эпоха или даже эра человеческого бытия, но сама жизнь как род бытия, ее онтологические возможности и предел этих возможностей. Вероятно, М.М. Бахтин, прибегая к термину «событие жизни», хотел подчеркнуть то, что в событии художественного произведения5 жизнь как конкретная бытийная форма исчерпывает весь свой онтологический потенциал.
Сказанное не означает, что фабульный персонаж вполне погружен в какой-либо фрагмент жизни и не ведает ничего о более широком бытийном контексте. Разумеется, он причастен к тем формам, в которых осуществляется событие бытия автора (поэта). Однако эта причастность проявляется, прежде всего, через категорию ценности, а не бытия. Герой произведения стремится овладеть какой-либо ценностью, которая находится в большем или меньшем отдалении от абсолютной ценности. Абсолютной ценностью является любовь. Она осуществляется как содержание бытия, совершающегося в непосредственно словесной форме. Достижение этой ценности завершает поэтическое - превращенно-словесное - бытие. В литературном аспекте это означает завершение события художественного произведения; в жизненно-прозаической действительности - завершение события жизни, сопровождаемое катарсисом.
Список литературы Проблема внутреннего мира
- Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения//Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74-87
- Христиансен Бр. Философия искусства. СПб., 1911. С. 42
- Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. С. 304