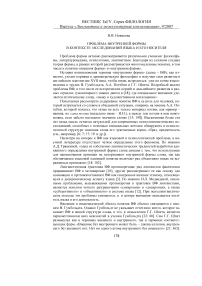Проблема внутренней формы в контексте исследований языка и его носителя
Автор: Новикова Инна Вальтеровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения по результатам исследований
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120474
IDR: 146120474
Текст статьи Проблема внутренней формы в контексте исследований языка и его носителя
ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ
В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯЗЫКА И ЕГО НОСИТЕЛЯ
Проблема формы активно рассматривается различными учеными: философами, литературоведами, психологами, лингвистами. Благодаря их усилиям создана теория формы, в рамках которой рассматриваются многочисленные понятия, в том числе и понятия «внешняя форма» и «внутренняя форма».
История возникновения термина «внутренняя форма» (далее – ВФ), как известно, уходит корнями в древнегреческую философию и получает свое развитие в английском платонизме XVII века, чтобы вновь возродиться уже на почве языковедения в трудах В. Гумбольдта, А.А. Потебни и Г.Г. Шпета. Подробный анализ проблемы ВФ, в том числе ее исторических корней и дальнейшего развития в разных отраслях гуманитарного знания дается в [18], где специальное внимание уделяется поэтическому слову, «знаку в художественном воплощении».
Попытаемся рассмотреть содержание понятие ВФ и ее роль для человека, который встречается со словом в обыденной ситуации, опираясь на мнение А.А. Потебни, который полагал, что «язык не есть только материал поэзии, как мрамор – ваяния, но сама поэзия (выделено нами – И.Н.), а между тем поэзия в нем невозможна, если забыто наглядное значение слова» [15: 198]. Высказанная более ста лет назад мысль остается актуальной для современных психолингвистических исследований, способных с помощью специальных методик обнаружить в психологической структуре значения слова его чувственные корни, образ, предметность (см., например, [6; 7; 17; 19 и др.]).
Несмотря на интерес к ВФ как языковой и психологической проблеме, в научной литературе отсутствует четкое определение этого феномена. По мнению А.Д. Травкиной, «одна из собственно лингвистических трудностей выработки адекватного определения внутренней формы слова связана с тем, что используемые для наименования признаки не исчерпывают внутренней формы слова, так как обозначаемое языковой единицей понятие включает ряд объективно никак не выраженных признаков» [18: 102].
Лингвистическая трактовка ВФ противоречива: ряд лингвистов фактически приравнивает ВФ к мотивировке [10], другие рассматривают ее как основу для номинации и противопоставляют ВФ как синхронное явление этимону, относящемуся к диахроническому аспекту языка [3]. По мнению И.Л. Медведевой, основными проблемами, вызывающими противоречия в трактовке ВФ лингвистами, являются попытки четкого разграничения «синхронии» и «диахронии», а также «субъективного» и «объективного» в системе языка [12]. При психолингвистическом подходе эти проблемы снимаются, и в центре внимания оказывается носитель языка и его деятельность.
Введение в языковедческий обиход понятия ВФ обычно связывается с именем В. Гумбольдта. Однако Гумбольдт не указывает отчетливо место, которое занимает ВФ в живой структуре слова, и это, в осмыслении Г.Г. Шпета, является первоисточником всех неясностей в учении Гумбольдта [22: 60]. Сам Г.Г. Шпет размышлял как в терминах внешнего и внутреннего, так и терминах соответствующих форм. «Внешнее без внутреннего может быть – такова иллюзия, внутреннего без внешнего нет. Нет ни одного атома внутреннего без внешнего» [21: 363].
Психологические и философские воззрения Г.Г. Шпета, в том числе и его размышления по поводу ВФ слова, высоко оцениваются В.П. Зинченко, который «вернул» научное наследие ученого академической общественности [5]. Взгляды Г.Г. Шпета на ВФ слова не оформлены в строгую научную концепцию и представляют собой, по выражению самого же автора, «этюды и вариации на темы Гумбольдта». Представления Шпета о ВФ слова, несомненно, связаны с представлениями Гумбольдта о ВФ языка. Анализ понимания ВФ слова Шпетом – довольно сложная задача, так как требует соотнесения этого понимания с психологическими традициями, которые игнорировались Шпетом как «воинствующим антипсихологистом» (Б.Г. Мещеряков). Тем не менее, В.П. Зинченко указывает на заслуги Г.Г. Шпета, в том числе и для современной психологии, особо подчеркивая тот факт, что «живое движение значений и смыслов » во внутренней форме слова -это прозрение Шпета, мимо которого прошла психология, лингвистика и семиотика. Живое движение значений и смыслов – это условие и принцип внутренней свободы языка [5: 48]. Изначальная динамика всего, что находится за словом в сознании пользующегося им индивида, является одним из постулатов психолингвистического подхода к анализу языковых явлений, и в этом смысле «прозрение Шпета» является близким психолингвистическому пониманию ВФ слова.
А.А. Потебня связывает возникновение ВФ со стремлением человека, называя чувственные образы предметов и явлений, выделять из потока восприятий отдельные наиболее существенные для него признаки и свойства.
Образная природа ВФ слова рассматривается А.А. Потебней на примере слова «золото». При этом слове «нам приходит на мысль цвет, а вес и звук могут вовсе не прийти, потому что не всякий раз при виде золота мы взвешивали его и слышали его звук», так как «в самом кругу изолированного образа при новых восприятиях одни черты выступают ярче от частого повторения, другие остаются в тени» [16: 99–100]. Таким образом, ВФ есть центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми остальными. Связывая понятие ВФ слова с образом, который пробуждается в душе человека при встрече со словом, А.А. Потебня подчеркивает, что кроме фактического единства образа (его признаков), ВФ «дает еще знание этого единства; она есть не образ предмета, а образ образа, то есть представление» [Ibid.]. Представление рассматривается языковедом как «известное содержание нашей мысли», которое имеет значение не само по себе, а только как форма, в какой чувственный образ входит в сознание; оно – только указание на этот образ, и вне связи с ним, т.е. вне суждения не имеет смысла. Но представление возможно только в слове, а потому слово, независимо от своего сочетания с другими, взятое отдельно в живой речи, есть выражение суждения, двучленная величина, состоящая из образа и его представления [16: 101]. Далее в своих рассуждениях А.А. Потебня обращается к примеру со словом «ветер». Если при восприятии движения воздуха человек скажет «ветер!», то это одно слово может быть объяснено целым предложением: это (чувственное восприятие ветра) есть то (т.е. тот прежний чувственный образ), что мне представляется веющим (представление прежнего чувственного образа) [Ibid]. Другой пример, взятый из диалектного языка, используется А.А. Потебней для раскрытия опосредствующей роли ВФ в процессах восприятия (в терминах А.А. Потебни – апперцепции), которые приводят к образованию нового слова. Обратим внимание, что апперцепция – старый философский термин, содержание которого на языке современной психологии можно интерпретировать как психические процессы, обеспечивающие зависи- мость восприятия предметов и явлений от прошлого опыта данного субъекта и т.п., и от содержания его психической жизни [2].
Сравнение жизни больного или несчастного человека с медленным и пасмурным горением (в выражении «не горит, а тлеет»), по мнению языковеда, можно поставить рядом с областным модеть , о дровах: тлеть, худо гореть; о человеке: хиреть, болеть. Предположив, что второе значение появилось позже первого, А.А. Потебня так представляет себе процесс возникновения слова модеть :
«Сначала это второе значение существовало в душе, хотя быть может в течение самого неуловимого мгновения, только как восприятие, которое так относится к своему позднейшему виду, как содержание к сознания человека, разбуженного новыми впечатлениями и еще бессильного дать себе отчет в том, что его окружает, и теми впечатлениями уже покоренными и переработанными мыслью. Человек еще не знал, что ему делать с поразившей его восприятием болезни; потом объяснил себе это восприятие, т.е. апперципировал его уже сложенными в одно целое восприятиями огня. Между болезнью и огнем было для него нечто общее (иначе не было бы апперцепции), и это общее выразилось словом модеть , которое тем самым стало средством апперцепции» [16: 93]. А.А. Потебня подчеркивает, что «быть посредником между столь разнородными группами восприятий, как огонь и болезнь, слово может только потому, что его собственное содержание, его внутренняя форма обнимает не все признаки горения, а только один из них, встречаемый в болезни» [Ibid.].
Таким образом, следуя рассуждениям А.А. Потебни, можно сделать вывод о том, что исходный образ, лежащий в основе ВФ, должен быть обязательно основан на конкретном чувственном представлении. Восстановление ВФ обыденного слова приводит к его «воскрешению». Об этом говорил В.Б. Шкловский, имея в виду, что «всякое слово в основе – троп» [20: 36]. Однако они «служат, так сказать, алгебраическими знаками и должны быть безóбразными, употребляясь в обыденной речи, когда они не договариваются и не дослушиваются, – стали привычными, и их внутренняя (образная) форма и внешняя (звуковая) формы перестали переживаться» [Ibid.]. На это же обращает внимание и А.А. Потебня: «забвение внутренней формы кажется нам прозаичностью слова» [16: 124]. В.Б. Шкловский объясняет причины этого «забвения» привычным восприятием:
«Мы не переживаем привычное, не видим его, а узнаем. Мы не видим стен наших комнат, нам так трудно увидать опечатку в корректуре, особенно если она написана на хорошо знакомом языке, потому что мы не можем заставить себя увидать, прочесть, а не "узнать" привычное слово» [20: 36].
Указание на «переживание» как необходимый момент восстановления ВФ обыденного слова кажется нам важным, так как намекает на активную роль человека – рядового носителя языка, способного в определенных условиях проникнуть через оболочку внешней формы, чтобы обнаружить для себя субъективное содержание слова.
Особые условия моделируются ассоциативным экспериментом, так как в ситуации естественной коммуникации «человек часто не осознает внутреннюю форму слова, так как эта информация оказывается избыточной и ненужной для употребления слова в речи» [12: 163].
В качестве материала исследований используются неологизмы родного языка, псевдослова, слова иностранного языка, так как считается, что это замедляет процесс идентификации и позволяет эксплицировать стратегии и опорные элементы, которые носитель языка использует неосознанно в условиях естественного речевого общения и которые достаточно сложно выявить вне экспериментальной ситуации. Тем более что участники эксперимента поставлены в «особые» условия, когда перед ними четко поставлена задача, которую необходимо решить «здесь и сейчас». Для решения этой задачи используют ряд стратегий, одной из которых является попытка расчленения неизвестного слова на знакомые элементы, опираясь на которые испытуемые приписывали значения стимулу. При этом результаты анализа, проводимого человеком, не всегда совпадают со словообразовательными моделями, в соответствие с которыми слово возникло в языке, а значения не совпадают с исторической мотивировкой, зарегистрированной в этимологическом словаре. Так, в результате эксперимента по выявлению особенностей восприятия русскими студентами английских слов, содержащих латинские морфемы, Е.С. Ле-тягина и В.В. Солдатов [8] заключают, что испытуемые часто не узнают распространенные латинские приставки, расчленяют слова на элементы, выделяют знакомые русские корни, ориентируются на сходные по звучанию или написанию слова родного языка, игнорируя орфографические правила (subaqueous – «собачий», conical – «конский», omniscient – «омнистия» и др.).
Наглядным примером того, как образ при необходимости служит сигналом-намеком на все, что связано с предметом, обозначенным словом (в широком понимании слова «предмет»), и дает богатую почву для конструирования значений, а ВФ служит «перекидным мостиком» от звуковой оболочки к значению, могут служить результаты экспериментального исследования идентификации значений конвертированных зооглаголов, которые представляют особый интерес в силу «прозрачности» своей ВФ [14]. По итогам эксперимента стимул TO HARE не был воспринят испытуемыми как квазиглагол. Очевидно, при его восприятии возник образ животного (зайца), которому животные приписали следующие характеристики: трусить, бояться, убегать, прыгать, скакать, запутывать следы, дрожать, косить глазами . Другим примером может служить глагол TO RAT («истреблять крыс»), которому были приписаны значения: окрыситься, грызть , шуметь, вредить, делать подлости и другие, не совпадающие со словарной дефиницией и содержащие компонент образности, которому сопутствует сема эмоциональной оценки. Таким образом, большинство глаголов идентифицировалось с опорой на образ предмета. Среди значений, предложенных испытуемыми, были такие, которые содержат в своей семантике указание на признак, объективно присущий животному, от названия которого произошел зооглагол, а также качества, которые традиционно приписываются животному во многих культурах. Это, на наш взгляд, перекликается с тем, что Шпет писал о «слове-образе», которое может быть «наброшено» на признак, случайно бросившийся в глаза [21: 380].
По мнению Г.Г. Шпета, образ должен обладать той же принципиальною структурой, что и слово вообще. Таким образом, Шпет ставит образ и слово в один ряд. В.П. Зинченко добавляет к этой паре действие и выдвигает тезис о гетерогенности и принципиальной общности их строения, основа которой скрыта в их внутренних формах, что «… составляет тайну их взаимодействия и продуктивности» [5: 86]. Для внешней и внутренней формы характерны отношения не только превращаемости «по вертикали или в глубину», но и, как отмечает В.П. Зинченко, по горизонтали: «… одна внутренняя форма превращается в другую, например, слово в действие, действие в образ и т. п.» [4: 86]; а также отношения обратимости. «Чтобы нечто стало невербальным внутренним или внешним словом, оно должно быть словом же и опосредовано. … И такой механизм взаимного опосре- дования постоянно работает. Его участники – действие, слово, и образ постоянно «прорастают» друг в друга, обогащают внутренние формы каждого, на чем строится их искомое смысловое единство» [Op. cit.: 108]. Понять сложность взаимоотношений между словом, действием, образом и мыслью можно только при понимании их внешних и внутренних форм и их обратимости. «Слово, образ и действие – это живые, т.е. способные к развитию животворящие формы» [Op. cit.: 167].
В.П. Зинченко, затрагивая проблему внешнего и внутреннего, также утверждает, что обратимость форм возможна, когда обе формы – живые формы, когда во внутренней форме происходит живое движение значений и смыслов. В.П. Зинченко отмечает необходимость «научиться ориентироваться во внутренней форме, усвоить ее, сделать своей» [4: 249]. ВФ должна как бы прорастать в глубины сознательной жизни, и слово, обладающее ВФ, не должно быть формальным, «мертвым», должно быть «живым». Перекликается с этой мыслью В.П. Зинченко то, что пишет А.Ф. Лосев: «Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой индивидуальности… Живое слово таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин…» [9: 636]. Далее А.Ф. Лосев усиливает мотив живого слова, живого имени: «Имя в настоящем смысле всегда собственное, а не нарицательное имя. Имя всегда есть имя живой вещи. Имя само всегда живо. Имя – порождение живых взаимообщающихся личностей. Имя вещи есть орудие общения с нею как с живой индивидуальностью…» [Op. cit.: 820]. Слово только тогда «живое» и «свое», когда оно включено в действие, пережито, связано с эмоциями и переживаниями. При этом под ВФ можно понимать «любое живое движение, связывающее форму слова с деятельностью индивида» [12: 174].
Как отмечает И.Л. Медведева, опора на ВФ может обеспечить «присвоение слова в условиях учебного билингвизма» [11: 77]. Обращение к ВФ слова при включении нового слова в лексикон окрашивает эту деятельность приятными эмоциональными переживаниями, что придаёт слову параметр эмоциональности, делает более прочной ассоциативную связь с другими единицами лексикона. Одним из этапов освоения иноязычного слова, таким образом, может считаться актуализация его ВФ, которая при этом понимается как образ и направляет (верно, или неверно) поиск значения.
Мы находим возможным выделить три аспекта существования ВФ: прошлое внутренней формы – то, что зафиксировано в этимологических словарях; настоящее – то, что осознается, восстанавливается испытуемыми в экспериментах; будущее – то, что может потенциально реализоваться в поэтических текстах. С этим, на наш взгляд, перекликается мысль А. Белого о том, что ВФ – «… текуча, переменна, неповторяема в различных индивидуальностях; она порождает новое словесное творчество…», а «всякое слово в этом смысле – метафора, т.е. оно таит потенциально и ряд переносных смыслов…» [1: 206].
Нам представляется, что проблема осознания ВФ слова приобретает особый интерес в контексте изучения процессов восприятия, идентификации и хранения лексических единиц изучаемого языка в сознании условного билингва, и мы считаем целесообразным дальнейшее более глубокое изучение этого вопроса.