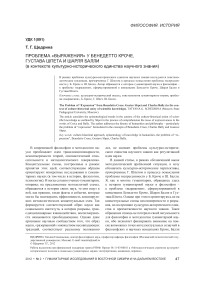Проблема «выражения» у Бенедетто Кроче, Густава Шпета и Шарля Балли (в контексте культурно-исторического единства научного знания)
Автор: Щедрина Татьяна Геннадьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История. Философия
Статья в выпуске: 2 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
В рамках проблемы культурно-исторического единства научного знания исследуются эпистемологические тенденции, прочерченные Г. Шпетом в процессе осмысления проблемы экспрессивности у Б. Кроче и Ш. Балли. Автор обращается к истории гуманитарной науки и философии - к проблеме «выражения», сформулированной в концепциях Бенедетто Кроче, Шарля Балли и Густава Шпета.
Культурно-исторический подход, эпистемология гуманитарного знания, проблема "выражения", б. кроче, г. шпет, ш. балли
Короткий адрес: https://sciup.org/170175327
IDR: 170175327 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи Проблема «выражения» у Бенедетто Кроче, Густава Шпета и Шарля Балли (в контексте культурно-исторического единства научного знания)
В современной философии и методологии науки преобладают идеи трансдисциплинарности, несоизмеримости теорий, лингвистической относительности и методологического плюрализма. Концептуальные схемы, построенные в рамках принятия этих идей, соответствующим образом ориентируют конкретные исследования в гуманитарных науках (в том числе в истории, филологии, психологии). И когда сегодня ученые-гуманитарии, опираясь на предложенные методологией схемы, обращаются к истории своих наук, то они ищут в ней, как правило, такие факты и события, которые могли бы подтвердить эффективность доминирующих методологических концептуальных схем. Так формируется соответствующий образ науки как социального института, в котором разрывы, трансдисциплинарные взаимодействия, несоизмеримости оказываются преобладающими. Однако даже признание научным сообществом того, что образ науки, «разорванной» множеством несовпадающих традиций, соответствует реальному положению дел, не снимает проблемы культурно-исторического единства научного знания как регулятивной идеи науки.
В данной статье, в рамках обозначенной выше методологической проблемной ситуации, я хочу обозначить культурно-исторические перспективы, прочерченные Г. Шпетом в процессе осмысления проблемы экспрессивности у Б. Кроче и Ш. Балли. Я, как и многие гуманитарии, обращаюсь здесь к истории гуманитарной науки и философии – к проблеме «выражения», сформулированной в концепциях Бенедетто Кроче, Шарля Балли и Густава Шпета. Однако при этом я ориентируюсь не на концептуальные схемы несоизмеримости и разрывов, но на принцип культурно-исторического единства и преемственности научного знания. Такое обращение отнюдь не потеряло своей актуальности для философии и методологии гуманитарной науки, ибо позволяет фиксировать внимание на поиске возможных точек интеллектуальных созвучий в философских и научных концепциях Кроче, Балли
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 11-03-00011 а «Методологические стратегии культурноисторического подхода в социально-гуманитарных науках: интерпретация, конвенция, перевод».
и Шпета, кажущихся, на первый взгляд, несоизмеримыми. Я полагаю, что такой подход тем более актуален в ситуации тотальной релятивизации культурно-исторических исследований.
В 20-е годы ХХ в. в русском философском и филологическом сообществе обозначился интерес к эстетическим и лингвистическим идеям Кроче и Балли в контексте философии языка и искусства, а также филологических и лингвистических исследований. В 1920 г. Б.В. Яковенко переводит работу Кроче «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» на русский язык (подробнее см. [7]). Б.А. Грифцов рассматривал идеи Кроче в докладе «Эстетика Бенедетто Кроче» 6 апреля 1922 г. на пленарном заседании философского отделения Государственной академии художественных наук1. В этот же период А.Г. Габричевский переводит книгу Кроче «Поэзия Данте» на русский язык2. К концепции «выражения» Кроче обращался Б.Я. Бухштаб в работе над философией «заумного языка» В. Хлебникова [3]. Н.Н. Волков опирался на теоретические построения Кроче в статье «Что такое метафора» [4, c. 98]. У М.М. Бахтина нет развернутой полемики с Кроче, но в тексте «Новейшие течения лингвистической мысли на западе» [5, c. 122], опубликованной под именем Волоши-нова (авторство этой работы до сих пор считается спорным), есть «принципиальная оценка его лингвистической эстетики» [8, c. 89]. В свою очередь идеи Балли (а также его учителя Ф. де Соссюра) стали известны в это время в России во многом благодаря его русским студентам (С.И. Карцевско-му3 и А.К. Соловьевой4).
В данном случае меня интересует исследование «Эстетики как науки о выражении и как общей лингвистики» Кроче и «Языка и жизни» Балли в трудах Густава Шпета «Познание и искусство» (конспект доклада, 1926), «Введение в этническую психологию» (М., 1927), «Внутренняя форма слова» (М., 1927). Замечу также, что творчество Кроче стало объектом внимания Шпета еще в 1912 г., когда он занимался сбором материала для своего масштабного труда «История как проблема логики». В записной книжке он фиксировал литературу, которую собирался использовать в рамках работы над избранной тематикой. Наряду с работами К. Розенкранца, Э. Ганса, Ф. Пилетти и многих других он также выписал для себя следующие работы Кроче, с которыми, по-видимому, собирался ознакомиться: на одной странице записной книжки: « Croce B. Il concetto della storia (1896)»; и на другой: «Fran-cesco Rossi. Studi storici. Milano, libr. Pirotta, 1835 (об этой книге см.: La nuova cultura. 1913. p. 1. Benedetto Croce . Una vecchia critica italiana della “Fi-losofia della storia”)»5.
Наконец, еще один документ, где Шпет вскользь упоминает книгу Кроче о Вико, – это отзыв на подготовленную к публикации книгу Н.В. Самсонова6 «История эстетических учений» [12, c. 256].
Общим тематическим полем, где можно обсуждать возможности интеллектуальных созвучий Шпета, Кроче и Балли, является сегодня семиотическая исследовательская сфера, в центре которой находится проблема культуры как «культурноисторического сознания»7, выраженного в языке. И хотя Балли рассуждает исходя из конкретного научно-лингвистического контекста, Кроче – из эстетического контекста проблемы экспрессивности и исследуя выразительные средства языка в контексте познания эстетических феноменов, а Шпет – из контекста философской семасиологии, их сближает общий тезис: о необходимости исследования проблемы выражения как основной познавательной проблемы. А тот факт, что способы трактовки проблемы выражения у Шпета, Балли
Ф. 941. Оп. 14. Д. 27. Л. 13–16. Подробнее о научных контактах Соловьевой и Балли см. [15, c. 290–325].
и Кроче разные, позволяет нам сегодня конкретно поставить вопрос о пересечении культурно-исторических перспектив в указанной сфере и актуализировать их смысл.
Балли следует за Соссюром и рассматривает язык как «множество знаков и отношений между ними» [2, c. 99], а проблему экспрессивности как лингвистическую проблему8. Поэтому он формулирует типологию знаков (signe [знак] и indice [признак]) и исследует выразительные средства языка. Причем он настаивает, что необходимо прежде всего акцентировать внимание на родном языке – как «живом выражении жизни». Шпет, как и Балли, предлагает очень близкую по конфигурации типологию знаков: «знаки-признаки» и «зна-ки-знаки»9. Их типологии не тождественны друг другу, поскольку Шпет погружает эту типологию в философский контекст, а Балли в лингвистический, но они пересекаются в семиотической плоскости.
Кроче также делает шаг в семиотическую сферу, он трактует культуру как искусство выражения и непосредственно обращается к уровням выражения в языке. Язык для Кроче является эстетическим феноменом. Основной, ключевой термин его концепции – «выражение» (экспрессия). Всякое выражение, для Кроче, в основе своей художественно, поэтому Кроче полагает, что «каждая подлинная интуиция или каждое подлинное представление есть в то же время и выражение» [6, c. 18]. Отсюда лингвистика, как наука о выражении, совпадает с эстетикой, а основным способом познания эстетических (значит, и лингвистических) феноменов становится интуиция. «Отождествление “интуиции” и выражения заставляло итальянского мыслителя, во многом вторя Гумбольдту, подчеркивать творческое начало в языке и смотреть на эстетику как на лингвистику» [1, c. 635].
Шпет, как и Кроче, придает интуиции («созерцательному познанию» [13, c. 97]) не только эстетический, но и эпистемологический статус. Он видит в интуиции познавательный феномен особого рода, где искусство и наука сближаются. В любом познавательном акте (будь то познание предмета искусства или исследование предметов действительности как научных фактов) субъект познания должен не просто схватить, но выразить смысл познанного в языке (т.е. то, что Шпет называл «внутренней логической формой»). В то же время отличие искусства как вида знания от научного познания заключается для Шпета в том, что в процес- се художественного постижения субъект должен понимать не только логический строй познаваемого предмета, выраженного в языке, но и «аналогон внутренней логической формы» – внутреннюю поэтическую форму.
Однако если Кроче трактует интуицию как нечто вне-дискурсивное, а выражение – как самовыражение (поэтому и язык трактуется Кроче как «неустанное творчество» [6, c. 155]), то Шпет пытается доказать, что интуиция как способ познания всегда требует дискурсии [11, c. 239]10, т.е. субъект, познавая в интуиции мир, познает его не сам по себе, но в общении с другими людьми и, следовательно, должен выразить свое понимание этого мира для других.
Ученица Шпета и Балли – А.К. Соловьева – так описывает в письме к Балли шпетовское различение экспрессии и экспрессивности, сделанное в работе «Введение в этническую психологию»: «автор говорит, что язык есть образец (“ modèle ”) “объективации” и “выражения” (“l’expression”), но нужно учитывать, что Шпет четко различает “экспрессию” (“ l’expression ”) и экспрессивность (“ expres-sivité ”). Для него “la communication” (сообщение) и “l’expression” (выражение) являются двумя сторонами одной и той же вещи – объективной в ее сущности , тогда как экспрессивность (выразительность) “l’expressivité”, которую он характеризует также термином “созначение” Mitbedeutung , есть нечто эмоциональное и субъективное , коллективно субъективное, если можно так выразиться»11.
Вот почему в центре внимания Шпета оказалась проблема выражения / экспрессии, но не в чисто лингвистическом или эстетическом контексте (как у Балли и Кроче), а в контекстах философско-феноменологическом, эстетическом и семиотическом. И на пересечении этих контекстов он высказывает ряд сомнений в адрес концептуальных установок лингвистической школы Кроче–Фосслера, с одной стороны, и в адрес швейцарской школы (Соссюра– Балли) – с другой. Шпет ставит проблему так: «или язык сплошь есть некоторое искусство, или язык есть нечто sui generis, – чтó, как задача, есть некоторое Χ, – плюс особая часть, член в нем, определяющийся как искусство (поэзия). Утвердительный ответ на вторую часть дилеммы – общепринятое, кажется, мнение. Принятие первого члена дилеммы может показаться парадоксом, но и оно имеет в настоящее время своих представителей (Кроче, Фосслер). Мнение Гумбольдта – третье: он различает язык и поэзию, лингвистику и эстетику, но видит между ними аналогию» [9, c. 370].
Однако при сопоставлении идейных установок Шпета, Кроче и Балли нужно иметь в виду еще одно важное обстоятельство. Шпет не принимает идею внутренней формы языка (В. фон Гумбольдт) как основания научно-философского исследования, поскольку отдает себе отчет в том, что язык как феномен (как целое) не может быть сам по себе положен в основу научного исследования, т.е. не может быть взят в качестве единицы научного анализа. Необходима еще и «часть» (слово), без которой язык теряет смысл, теряет свое принципиальное значение «контекста» в семиотическом исследовании. В процессе обоснования своего выбора «слова» как первоосновы семиотического анализа Шпет делает акцент на следующих признаках: прежде всего, слово – это «отдельное слово», т.е. «некоторая последняя, далее неразложимая, часть языка, элемент речи» [14, c. 569] (причем «речь» и «язык» берутся Шпетом как синонимы). Но далее Шпет уточняет, что это отдельное слово в каждом определенном контексте имеет единственный смысл. И именно эта связка, это отношение «слово – смысл» становится для Шпета основополагающим элементом, первоосновой, определяющей дальнейший ход его размышлений. Дело в том, что «слово» у Шпета имеет еще одно значение, а именно, «слово употребляется в значении всей вообще, как устной, так и письменной речи». А это значит, что отношение «слово – смысл» может быть интерпретировано как отношение «слово (язык, речь) – смысл», т.е., в терминологии Шпета, как «выражение».
Хочу подчеркнуть еще раз: намеченные различия в концептуальных установках Кроче, Балли и Шпета предполагаются именно их обращением к общей предметной сфере – к сфере семиотической. Но для Кроче – это историческое сознание, для Балли – это лингвистическая ситуация, для Шпета – это сфера разговора, в которой собеседники могут понимать друг друга. Причем в этом плане Шпет рассуждает как философ, расширяющий горизонты специальных гуманитарных наук, в рамках которых работает лингвист Балли. И кроме того, он, в отличие от философа Кроче, выступает как философ, укорененный в русской интеллектуальной «сфере разговора». Замечу, что именно эту традицию Кроче не понимал и не принимал. Вместе с тем «шатер скитающегося скифа» (Вяч. Иванова) Кроче посетил и даже вступил с ним в полемику. История неоднократно показывала, что взаимодействие различных философских культур
(как в личностном, так и в социальном плане) дает великолепные философские образцы.
Особенность русской философской культуры проявляется (в данном случае у Шпета) в том, что общение понимается как самоценность. Вот почему Шпет счел возможным признать ограниченность чисто лингвистического и эстетического контекста в общей семиотике (или, как он сам называет, семасиологии). Он задается вопросом о том, какое место занимает выделенная им «внутренняя форма слова» в общем строении языка. Предельными плоскостями он намечает фонетику, с одной стороны, и синтаксис – с другой. Но единственной научной областью, где в какой-то мере может быть найдено место для внутренних форм, Шпет называет «область форм “морфологических” и форм “синтаксических”, куда надо присоединить и “стилистические” формы, безразлично, будем ли мы их понимать как формы только экспрессив-ные12 или как формы вместе с тем организующие, но субординированные логически-смысловым» [9, c. 377]. Обратим внимание, что ссылается он в данном случае на Кроче, Фосслера и Балли с их концепциями экспрессивности.
Проблема экспрессивности и сегодня широко обсуждается особенно среди лингвистов (но и другими гуманитариями), однако обсуждается, как правило, только один аспект этой проблемы, представляющий экспрессивность как выразительность, т.е. сводящий проблему к психологической сфере. Между тем погружение этой проблемы в контекст философских и гуманитарных дискуссий начала ХХ в. позволяет по-иному взглянуть на проблему экспрессии. Рассмотреть ее не только как лингвистическую или эстетическую проблему, но и как проблему эпистемологическую. Исследовательские концепции Кроче, Шпета и Балли открывают – каждая в своей манере – разные оттенки подобного (эпистемологического) рассмотрения проблемы выражения. Но при этом каждый из них, благодаря обращению к семиотической сфере, фактически погрузил соответствующую проблематику в контекст культуры, понял ее как элемент культурно-исторического сознания. Это погружение позволяет актуализировать сегодня позиции Шпета, Кроче и Балли, демонстрируя методологическую эффективность идеи культурно-исторического единства научного знания в наше «разорванное» время.
Список литературы Проблема «выражения» у Бенедетто Кроче, Густава Шпета и Шарля Балли (в контексте культурно-исторического единства научного знания)
- Акимова М.В., Пильщиков И.А., Шапир М.И. Комментарии//Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения: Избр. труды по теории литературы. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 611-807.
- Балли Ш. Язык и жизнь. М.: Едиториал УРСС, 2003. 232 с.
- Бухштаб Б.Я. Философия «заумного языка» Хлебникова. Вступ. статья, подгот. текста, коммент. С. Старкиной//Новое лит. обозрение (НЛО). 2008. № 89. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/bb4.html (дата обращения: 13.04.2012).
- Волков Н.Н. Что такое метафора//Художественная форма. М.: ГАХН, 1927. С. 81-124.
- Волошинов В.Н. Новейшие течения лингвистической мысли на западе//Литература и марксизм. № 5. 1928. С. 115-149.
- Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М.: Intrada, 2000. 160 с.
- Степанова Л.Г. Б.В. Яковенко как переводчик: к истории первого русского издания «Эстетики» Кроче//Вопросы литературы. 2007. № 1. С. 318-341.
- Шайтанов И.О. Жанровое слово у Бахтина и формалистов//Вопросы литературы 1996. № 3. C. 89-114.
- Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта//Шпет Г.Г. Искусство как вид знания: Избр. труды по философии культуры/отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2007. С. 325-501.
- Шпет Г.Г. Заметки/реконструкция текста, предисловие и коммент. Т.Г. Щедриной//Дом Бурганова. Пространство культуры. М., 2009. № 2. С. 202-203.
- Шпет Г.Г. Опыт популяризации философии Гегеля//Шпет Г.Г. Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры/отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2010. C. 222-252.
- Шпет Г.Г. Отзыв о работе Н.В. Самсонова «История эстетических учений»//Шпет Г.Г. Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры. М.: РОССПЭН, 2010. C. 253-259.
- Шпет Г.Г. Познание и искусство (конспект доклада)//Шпет Г.Г. Искусство как вид знания: Избр. труды по философии культуры. М.: РОССПЭН, 2007. С. 95-100.
- Шпет Г.Г. Язык и смысл//Шпет Г.Г. Мысль и Слово: Избр. труды/отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2005. С. 470-668.
- Щедрина Т.Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М.: РОССПЭН, 2008. 390 с.
- Shchedrina T., Velmezova E. Charles Bally et Gustav Shpet en conversation intellectuelle: reconstruire les archives de l'époque//Cahiers de l'ILSL. 2008. № 24. P. 237-251.