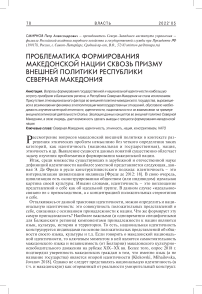Проблематика формирования македонской нации сквозь призму внешней политики Республики Северная Македония
Автор: Смирнов Петр Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Вопросы формирования государственной и национальной идентичности наибольшую остроту приобрели в Балканском регионе, и Республика Северная Македония не стала исключением. Присутствие этнонационального фактора во внешней политике македонского государства, выразившееся в возникновении феномена этнополитизации межгосударственных отношений, обусловило необходимость изучения категорий этничности, идентичности, национальности и их взаимосвязи на примере внешнеполитической деятельности Скопье. Эволюция данных концептов во внешней политике Северной Македонии, в свою очередь, дает возможность сделать выводы о процессе формирования македонской нации.
Северная македония, идентичность, этничность, нация, конструктивизм, нато
Короткий адрес: https://sciup.org/170195964
IDR: 170195964 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9242
Текст научной статьи Проблематика формирования македонской нации сквозь призму внешней политики Республики Северная Македония
Р ассмотрение вопросов македонской внешней политики в контексте разрешения этнических проблем немыслимо без четкого определения таких категорий, как идентичность (национальная и государственная), нация, этничность и др. Выявление сущности данных понятий существенно облегчает задачу изучения проблематики формирования македонской нации.
Итак, среди множества существующих в зарубежной и отечественной науке дефиниций идентичности наиболее уместной представляется следующая, данная Э. Де Фреде в русле конструктивистского подхода: идентичность – это интернализация цивилизации индивида [Фреде де 2012: 18]. В свою очередь, цивилизация есть сконструированная обществом (или индивидом) идеальная картина своей культуры. Иными словами, идентичность – это воплощение представлений о себе как об идеальной группе. В данном случае «идеальное» связано не с превосходством, а с концентрацией положительных стереотипов о себе.
Отталкиваясь от данной трактовки идентичности, можно определить и национальную идентичность: это совокупность положительных представлений о себе, связанная с осознанием принадлежности к нации. Что же формирует эту самую принадлежность? Наиболее важными (и одновременно специфичными для Балканского региона) компонентами принадлежности к нации являются язык, культура, история и территория. То есть, национальная идентичность конструируется индивидами на основе положительных представлений об общности своего языка, культуры и т.д. Если говорить о македонской национальной идентичности, то ключевым моментом в ней является самостоятельность македонского языка и независимость (от Болгарии) македонского культурноосвободительного движения на рубеже XIX–XX вв. Более того, опрос 2018 г. подтвердил уверенность македонских граждан в том, что именно язык (а не название государства) является опорой идентичности [Klekovski, Mihailovska, Jovanov 2018]. Однако не следует представлять национальную идентичность (в т.ч. и македонскую) как оторванный от реальности умозрительный конструкт.
Напротив, представления о себе (применительно к балканским государствам) имеют под собой объективные основания в виде отдельно существующих языков, отличных друг от друга исторических путей каждого государства и различий в религии. Непродолжительный период совместного сосуществования в рамках СФРЮ не должен и не может ставить под сомнение национальную самобытность каждой постъюгославской республики.
Государственная идентичность представляет собой явление иного порядка, нежели национальная. Государственная идентичность является сводом правил поведения государства как актора международных отношений, и эти правила соблюдаются и остальными акторами. Основой же этих правил является определенное представление о государстве – как собственное, так и со стороны других (в этом случае концепция brand state как нельзя лучше поясняет механизм формирования представлений «извне» [Ham 2001: 6]). Представление конструируется в равной степени как политическими элитами, так и собственно гражданами государства, и поведение политических элит является отражением настроений и ожиданий граждан.
На примере Республики Северная Македония (далее – РСМ) применение государственно-идентичностных установок прослеживается в диалоге с НАТО: политика Скопье была направлена на получение гарантий безопасности со стороны Североатлантического альянса; государственная идентичность македонской республики в данном случае была обусловлена наличием множества внешних угроз. Восприятие себя как игрока, не обладающего большим объемом ресурсов по обеспечению безопасности, обусловило поиск сильных партнеров и их аналогичное отношение к РСМ.
Говоря о национальной идентичности, необходимо также обозначить и разграничить понятия нации и этноса. К первому можно отнести определение Э. Де Фреде: это политическое выражение общества в пределах его географических границ [Фреде де 2012: 19]. Сходное определение предлагает и Б. Андерсон, называющий нацию воображенным политическим сообществом [Андерсон 2016: 47]. Здесь нужно указать на конструктивистскую трактовку нации как сообщества, которое существует по причине осознания его членами своей принадлежности к этому сообществу.
Следовательно, непременным атрибутом нации должна являться государственность, включающая в себя вышеназванные ключевые компоненты: язык, религию, культуру, историю. Несмотря на некоторую лаконичность формулировки, главное свойство нации представлено очевидно – это политическое сообщество. В данном случае определение этноса, на наш взгляд, можно дать в упрощенном виде: этнос – общество, существующее в определенных географических границах и имеющее общее происхождение и культуру, при этом не обладающее политическим выражением.
В чем же разница между нацией и этносом? Наиболее очевидным и бесспорным признаком, отличающим нацию от этноса, является государственность и политическая деятельность. Оба понятия имеют важное значение и получают определенное применение. Македонская нация, в политическом отношении представленная правительством республики, имела ряд этнических проблем, которые требовалось решить как во внутренней, так и во внешней политике. Этнические проблемы в данном контексте – проблемы, связанные с этносами, не имеющими государственности на македонской территории, или проблемы, связанные с этничностью каких-либо групп. Для понимания данной дефиниции необходимо пояснить, что такое этничность. Согласно емкому определению В.И. Козлова, этничность – это свойство какого-либо этноса, отличаю- щее его от другого этноса [Козлов 1995: 50]. Данное определение вполне коррелирует с традиционным пониманием этничности как субъективного чувства принадлежности к определенной группе, объединенной общей культурой и происхождением [Wimmer 2008: 973]. Добавим, что нация (как этнос, обладающий государственностью) может обладать этничностью как одним из своих свойств. В данном случае нельзя не согласиться с идеей В.А. Тишкова о государственном, политическом наполнении понятия «нация», что явно отличает данный термин от понятия «этнос» [Дробижева, Рыжова 2015: 10].
Важным моментом, нуждающимся в пояснении, является суть государственности как признака, отличающего нацию от этноса. Государственность не обязательно подразумевает наличие у группы собственного государства, возможно и обладание лишь определенной политической автономией в рамках другого государства. Сопоставление внутриполитических контекстов каждого государства Западных Балканов позволяет привести конкретные примеры: Республика Сербская как автономная политическая единица в составе Боснии и Герцеговины обладает государственностью (подкрепленной этнической гомогенностью), что позволяет называть боснийских сербов нацией, в то время как албанское население РСМ, интегрированное в политическое пространство македонского государства, своей государственностью не обладает и нацией называться не может. Только гипотетический пересмотр рамочных соглашений с последующей деинтеграцией албанского населения может сделать македонских албанцев нацией, обладающей собственной государственностью.
Таким образом, этнические проблемы РСМ – это спорные вопросы, касающиеся положения и прав албанцев, цыган, болгар и других групп, не имеющих (и не могущих иметь) государственности на территории македонской республики. Проще говоря, это вопросы этнических меньшинств. Одновременно с этим этнонациональный фактор во внешней политике РСМ представляет собой совокупность спорных вопросов во взаимоотношениях македонского государства с государствами-соседями, где этничность РСМ вступает в конфликт с этничностью другого государства, например, языковой конфликт Софии и Скопье.
Возвращаясь к вопросу идентичности, нужно подчеркнуть следующее: идентичность включает в себя представления о самобытности своего языка и культуры, обращение к историческому прошлому и верность религиозным традициям. Македонская идентичность строится на идее самобытности македонского языка и самостоятельности македонской истории, что приводит нас к вопросу формирования македонской нации.
Связь истории и нации обусловлена специфическим миропониманием балканских народов, в котором концепт гражданственности подчинен концепту нации: чем богаче и дольше исторический путь, тем раньше сформировалась нация. Спорные моменты македонской истории, вызывающие негативную реакцию в Болгарии, касаются событий после русско-турецкой войны 1877– 1878 гг., и нужно подчеркнуть, что самостоятельная македонская история берет свое начало именно в 1878 г. Тогда же можно говорить о постепенном превращении македонского этноса в нацию, путь которой к обретению государственности был долгим в силу объективных причин в виде активного участия в региональных процессах внешних акторов. Наряду с процессом превращения македонского этноса в нацию шел процесс формирования македонской национальной идентичности.
Если говорить о периоде независимого существования македонского госу- дарства, то очевидным и наглядным представляется процесс трансформации македонской нации из этнической в государственную. Во многом этот процесс был стимулирован заключением рамочных соглашений, изменивших положение албанского населения РМ: так, из «национального государства македонского народа»1 (согласно изначальной преамбуле Конституции) македонская республика превратилась в государство с множеством признанных общин, самобытность которых охраняется законом. Создание государственной нации на базе этнической иллюстрируется и фактом заключения Преспанских соглашений, в которых было противоречие, вызвавшее недовольство граждан РСМ, которое касалось именования национальности македонцев, – станут ли они северомакедонцами после заключения соглашения и внесения поправок в Конституцию? На наш взгляд, формулировки Преспанского соглашения (ст. 1 и 7)2 предельно точно зафиксировали два момента: сохранение непосредственно македонской национальной идентичности и укрепление государственной идентичности Республики Северная Македония. Последнее, в свою очередь, обозначило интенсификацию процесса конструирования государственной нации. Здесь следует указать на то, то конструированием нации занимаются политические элиты и партии, т.е. те силы, которые в широком смысле являются государством, «надстройкой» над гражданским обществом. Нужно подчеркнуть, что активность политических элит является закономерным отражением настроений в обществе и не может рассматриваться в отрыве от него; процесс формирования государственной нации, несомненно, имел корни в социальной среде македонских граждан. В этом смысле показательными являются события осени 1994 г., когда происходили первые президентские выборы в РМ. Кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Л. Георгиевски призывал национальные меньшинства стать македонцами в государственном смысле [Митревска 2015: 135], опираясь на лозунг: «Македония для македонцев», что в условиях внешнеполитической нестабильности не являлось приоритетом для избирателя. Лишь укрепление внешнеполитических позиций РМ спустя несколько лет стимулировало процесс складывания македонской государственной нации. Субъектом же данного процесса являлось собственно македонское государство, решавшее проблемы как внутриполитического характера (установление консенсуса между партиями и этническими группами в республике), так и внешнеполитического – утверждение собственной идентичности на основе определенных концептов.
Говоря о конструировании государственной нации, нужно указать на отличие конструктивистского подхода от примордиалистского и инструменталистского, не вполне применимых к македонскому случаю. Примордиалистская концепция базируется на представлении об этносе и нации как общности людей, обладающих общими характерными чертами и проживающих на одной территории. Нация в данном случае – нечто, существующее продолжительное время и имеющее уникальный характер ( sui generis ). В случае с македонской нацией и этничностью это не вполне корректный подход, т.к. абсолютно всеми разделяется мысль о «молодости» македонской нации и ее близости к соседним этническим и национальным группам сербов и болгар.
Инструменталистская же концепция предполагает существование какой-либо этничности или идентичности только в роли инструмента достижения определенных политических целей различными властными группами и элитами; т.е. самоценность нации и идентичности имеет явно вторичный, ситуативный характер. Данный подход, на наш взгляд, трудно применить к анализу процессов в Балканском регионе, в котором местные, национальные традиции в сочетании с неизгладимыми свойствами балканского национализма – иррациональностью, эмоциональностью, неизменным обращением к прошлому [Анникова, Радусинович 2015: 99] являются своеобразным символом веры как для общества, так и для властных элит.
При этом в случае с РСМ видится не вполне уместным повсеместное применение конструктивистских трактовок вплоть до признания этноса и этнической идентичности одной из форм социальной структуры, которая может прекратить свое существование по мере отторжения своими членами факта принадлежности к ней. К примеру, Ф. Барт признает подвижность и ситуа-тивность этнических границ, а принадлежность к этнической группе – не более чем вопрос сознания [Тишков, Шабаев 2019: 40]. Отметим, что при анализе специфики албанской, македонской и любой иной этнической группы Балканского региона в первую очередь принимаются во внимание априорные, а не ситуативные характеристики данной группы, имеющие определенное антропологическое (но не умозрительное) происхождение.
Вопрос идентичности македонского государства, базирующийся на концептах языка, культуры и религии, выходя на центральное место в диалоге Скопье с другими государствами, попадает в ряд этнических проблем, когда македонская этничность вступает в противоречие с чьей-либо этничностью. Здесь нужно сказать о специфическом для Балканского региона явлении этнополитизации внешней политики, когда в двусторонних или многосторонних отношениях какого-либо из региональных акторов на первый план выходят вопросы этничности и входящие в них проблемы идентичности, религии и пр. Проводя параллели с выводами Р. Брубейкера об этническом насилии, можно сказать, что этнополитизация внешней политики – процесс, направленный на иную этническую принадлежность противоположного субъекта [Брубейкер 2012: 77].
Этнонациональный аспект внешней политики РСМ наиболее отчетливо проявился в контактах с Болгарией и Сербией, но не с Грецией. Можно предположить, что вопрос наименования собственного государства в самоидентифи-кационной системе воззрений македонского народа и власти априори занимал менее важное место, чем вопрос этничности и религии, а смена названия государства не стала «главным национальным вызовом РСМ в области политики идентичности» [Салаватова 2021: 209]. Если попытаться выстроить шкалу приоритетов македонского государства в политическом поле (что вполне отражает настроения в обществе), то на первом месте будет концепт языка и истории, на втором – религии, на третьем – государства, как бы парадоксально это ни выглядело. Дело в том, что название государства, в итоге, не меняет сущность македонского народа и его самосознания; подписание Преспанского соглашения сделало македонцев гражданами Северной Македонии, но не северо-македонцами, равно как и язык остался македонским. Получается, что спор о названии с Грецией был дискуссией о терминах, по поводу которых греческая сторона по объективным причинам испытывала большой интерес и тревогу. Что касается места религии в представлениях македонского общества, то наиболее красноречиво об этом свидетельствуют результаты опросов населения, проведенных в ходе парламентских выборов 2020 г.: большинство респондентов отметили присутствие религиозной символики в риторике партий, что нисколько не повлияло на их выбор [Попадьева 2021: 63].
В свою очередь, вопрос существования и «периодизации» существования своей нации для македонцев стал крайне болезненным и трудноразрешимым, что и отразилось на диалоге Софии и Скопье. Любые попытки отрицать или упрощать историю македонского национального самосознания, объективно берущего свое начало в событиях антиосманской борьбы начала ХХ в. и неразрывно связанного с именем Гоце Делчева, ведут к конфронтации. По меткому замечанию У. Альтерматта, национализм занял место религии [Альтерматт 2000: 140], и любое посягательство на чью-либо идентичность имеет драматические последствия, что проиллюстрировали события после распада СФРЮ В свою очередь, религия как промежуточный концепт между национальной идентичностью и государственным названием имеет соответствующее значение для македонской внешней политики, являясь одновременно и опорой национальной идеологии, и инструментом политической борьбы.
Немаловажным условием складывания македонской нации и формирования государственной идентичности является процесс преодоления внутригосударственных противоречий и слияние идентичностей различных социальных или этнических групп. Данный процесс в РСМ, по нашему мнению, в постохридский период развивается по восходящей, но данные опросов свидетельствуют о не до конца преодоленном противопоставлении албанской и македонской групповой идентификации (особенно в молодежной среде) [Пономарева 2020: 269]
Подводя итог, нужно отметить главное: вопросы национальной македонской идентичности не только имеют большое значение для самой РСМ или в региональном масштабе, но и напрямую затрагивают общеевропейские интеграционные процессы. Конфликт Софии и Скопье обладал большей остротой, нежели спор о названии с Грецией, невозможность вступления РСМ в ЕС в текущих условиях привлекла внимание европейских политических элит. Можно предположить, что возможное активное участие европейских акторов в разрешении данного вопроса рано или поздно привнесет рациональную составляющую в межгосударственные отношения в регионе и станет сдерживающим фактором для дальнейшей этнополитизации внешней политики всех балканских государств, включая РСМ.
Список литературы Проблематика формирования македонской нации сквозь призму внешней политики Республики Северная Македония
- Альтерматт У. 2000. Этнонационализм в Европе. М.: Изд-во РГГУ. 367 с.
- Андерсон Б. 2016. Воображаемые сообщества. М.: Кучково поле. 416 с.
- Анникова В.А., Радусинович М. 2015. Этнические конфликты на территории бывшей Югославии. - Вестник РУДН. Т. 15. № 4. С. 94-102.
- Брубейкер Р. 2012. Этничность без групп. М.: ИД ВШЭ. 408 с.
- Дробижева Л.М., Рыжова С.В. 2015. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России. - Полис. Политические исследования. № 5. С. 9-24.
- Козлов В.И. 1995. Проблематика «этничности». - Этнографическое обозрение. № 4. С. 39-55.
- Митревска Я. 2015. Электоральные процессы в македонском транзите: дис. ... к. полит. н. Тамбов. 240 с.
- Пономарева Е.Г. 2020. «Новое прошлое» Западных Балкан. - Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. № 5(102). С. 260-272.
- Попадьева Т. И. 2021. Религиозный фактор формирования гражданской идентичности в Северной Македонии. - Обозреватель. № 10(321). С. 54-66.
- Салаватова А.В. 2021. Европейская интеграция как фактор македонской национальной идентичности. - Современная Европа. № 1. С. 209-218.
- Тишков В.А., Шабаев Ю.П. 2019. Этнополитология: Политические функции этничности. М.: Изд-во МГУ. 416 с.
- Фреде де Э. 2012. Культура, цивилизация и идентичность. - Полис. Политические исследования. № 5. С. 17-23.
- Ham P. 2001. The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation. - Foreign Affairs. Vol. 80. No. 5. P. 2-6.
- Klekovski S., Mihailovska J., Jovanov M. 2018. The Name Dispute. Public View in Macedonia. MCIC, IDSCS, M-Prospect. 53 р. URL: https://mcms.mk/images/ docs/2018/the-name-dispute-2018.pdf (accessed 22.09.2022).
- Wimmer A. 2008. The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries: A Multilevel Process Theory. - American Journal of Sociology. Vol. 113. Is. 4. P. 970-1022.