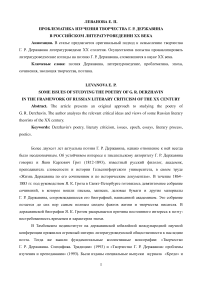Проблематика изучения творчества Г. Р. Державина в российском литературоведении XX века
Бесплатный доступ
В статье предлагается оригинальный подход к осмыслению творчества Г. Р. Державина литературоведами ХХ столетия. Осуществлена попытка проанализировать литературоведческие взгляды на поэзию Г. Р. Державина, сложившиеся в науке ХХ века.
Литературоведение, поэзия державина, поэтика, проблематика, сочинения, эволюция творчества, эпоха
Короткий адрес: https://sciup.org/147249428
IDR: 147249428 | УДК: 821.161.1?19
Текст научной статьи Проблематика изучения творчества Г. Р. Державина в российском литературоведении XX века
Более двухсот лет актуальна поэзия Г. Р. Державина, однако отношение к ней всегда было неоднозначным. Об устойчивом интересе к писательскому авторитету Г. Р. Державина говорил и Яков Карлович Грот (1812-1893), известный русский филолог, академик, преподаватель словесности и истории Гельсингфоргского университета, в своем труде «Жизнь Державина по его сочинениям и по историческим документам». В течение 1864– 1883 гг. под руководством Я. К. Грота в Санкт-Петербурге готовилось девятитомное собрание сочинений, в которое вошли письма, записки, деловые бумаги и другие материалы Г. Р. Державина, сопровождавшееся его биографией, написанной академиком. Это собрание остается до сих пор самым полным сводом фактов жизни и творчества писателя. В державинской биографии Я. К. Гротом раскрывается причина постоянного интереса к поэту: востребованность временем и характером эпохи.
В Тамбовском пединституте на державинской юбилейной международной научной конференции проявился огромный интерес литературоведческой общественности к наследию поэта. Тогда же вышли фундаментальные коллективные монографии: «Творчество Г. Р. Державина. Специфика. Традиции» (1993) и «Творчество Г. Р. Державина: проблемы изучения и преподавания» (1993). Были изданы специальные выпуски журнала «Кредо» и уникальное издание «Пленира» (1993). Все свидетельствовало об огромном авторитете личности и творчества великого поэта.
Во многих научных докладах по сей день актуализируется проблема влияния творческих традиций, заложенных Г. Р. Державиным, на его поэтических потомков – А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, Ф. М. Достоевского, поэтов XX века и в области осмысления Г. Р. Державиным фольклорного материала [1; 2; 5; 9; 11].
В ХХ столетии державиноведение развивалось особенно успешно. Оно представлено трудами А. В. Западова, Д. Д. Благого, Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, Г. П. Макогоненко, С. А. Васильева, Т. В. Федосеевой и др.
В 1914 году известный литературовед Б. А. Грифцов в своем очерке, опубликованном в журнале «София», впервые заговорил о необходимости освобождения взглядов на творчество представителя «века богатырей» от разнообразных штампов, которые успели сложиться в XIX столетии. Речь шла о том, что весьма авторитетные критики XIX века (В. Г. Белинский, А. Н. Пыпин, Н. Г. Чернышевский и др.) отказывали Г. Р. Державину в художественном совершенстве («Ничего не может быть слабее художественной стороны стихотворений Державина»; «...Поэтические его произведения не имеют ровно никакой цены»; «...В его стихах одно только безвкусие»), личностной состоятельности («Он был дикарь с добрым от природы сердцем...»; «Державин оставил после себя в казенных архивах массу официальных кляузных бумаг»).
Статья Б. А. Садовского «Державин» послужила толчком к возникновению интереса, продержавшегося на протяжении всей первой половины ХХ века, к творчеству поэта. Особенно в 1916 году, когда отмечалось столетие со дня его смерти. На эту дату критическими работами откликнулись Ю. И. Айхенвальд, Б. М. Эйхенбаум, В. Ф. Ходасевич, вышел юбилейный державинский номер «Вестник образования и воспитания».
В этих статьях констатировалась необходимость восстановления исторической справедливости в отношении творчества Г. Р. Державина. В связи с этим Б. М. Эйхенбаум писал: «Наука наша была к Державину невнимательна, несправедлива – не от злого умысла, а от бессилия. Она билась над тем, что есть в Державине непоэтического, обусловленного временем, а сверхвременные, т. е. настоящие, поэтические ценности ускользали из рук <...> я думаю, что на нашем поколении лежит долг – изменить направление, установившееся в нашей истории литературы» [13, с. 5].
В. А. Западов утверждал, что «творчество великого русского поэта заключает в себе элементы всех литературных стилей. В своих теоретических воззрениях на поэзию, в ряде философских и похвальных од, в широком использовании риторических приемов классицистской поэтики Державин близко примыкает к классицизму. Но его убеждение в том, что источником поэзии является вдохновение, роднит его с романтизмом, равно как и отношение к народному творчеству и скандинавской мифологии. В различных произведениях Державина, даже написанных в одно время, мы находим то преобладание черт, характерных для реализма, то черт, свойственных романтизму или классицизму» [6].
М. Г. Альтшуллер в противоположность В. А. Западову считает Державина «преромантиком»: «Многообразное, яркое, испытавшее на себе множество влияний и в то же время глубоко самобытное творчество этого гениального поэта не укладывается в рамки одного литературного направления, оно во многом соприкасалось с преромантизмом и укрепило, упрочило преромантические настроения в русской литературе» [2, с.16]. Такая причина расхождений ясна. Большинство исследователей сходится на том, что Г. Р. Державин по своей литературной позиции относится к классицизму. Пререкания начинаются с того, что исследователь дает свое определение «эстетических отношений» Г. Р. Державина к классицизму.
В ХХ веке формируется новое видение поэзии Г. Р. Державина. Это происходит благодаря поэтам Серебряного века, которые обратились к XVIII веку и нашли в поэзии Г. Р. Державина новые возможности для вдохновения.
Главной, принципиальной идеей оценки художественного наследия Г. Р. Державина была мысль о духовной мощи Поэта, словесном могуществе и «неисчерпаемости» великого писателя в истории русской литературы. Это отмечали В. Ф. Ходасевич, П. Бицилли, Э. Райс и другие.
Для В. Ф. Ходасевича Г. Р. Державин был учителем, который помог обрести стилистико-языковую манеру. В. Ф. Ходасевич подходил к творчеству Г. Р. Державина как к живому художественному явлению, тем самым вновь открывая известного и неизвестного поэта, постигая в полуторавековом историческом пространстве эволюцию русской литературы вообще и поэзии в частности. Этот временной промежуток и разделял, и связывал творчество двух поэтов: Г. Р. Державина и В. Ф. Ходасевича.
Так же в ХХ столетии представляется закономерным большой интерес родоначальника и мэтра русского символизма В. Я. Брюсова к поэтическим новациям Г. Р. Державина. Тема величия и связала двух стихотворцев. Пытаясь найти средства для реформирования художественного языка и поэзии в целом, В. Я. Брюсов активно обращался к опыту предшествующих эпох. В круг его творческих интересов входила и масштабная личность Г. Р. Державина.
В своих размышлениях о новом искусстве В. Я. Брюсов отталкивается от художественно-идеологических принципов поэзии Г. Р. Державина, указывая на назревшую в начале ХХ века необходимость изменения творческих задач поэта, формирования у него принципиально иного самосознания и новой роли в обществе.
Фактически В. Я. Брюсов призывал современников-поэтов к тому, чтобы они взяли за основу державинскую традицию и осмыслили её в новом искусстве, которое должно быть «чем- то более важным и более реальным, чем жизнь». В. Я. Брюсов прямо указывал на заслугу Г. Р. Державина в том, что он стремился разграничить реальную жизнь поэта и его роль в искусстве, фактически называя Г. Р. Державина предшественником символистского мировоззрения.
Таким образом, В. Я. Брюсов прямо следует за державинской традицией, насыщая ее новыми смыслами: «Нет особых мигов, когда поэт становится поэтом: он или всегда поэт, или никогда. И душа не должна ждать Божественного глагола, чтобы встрепенуться» [3]. Но не только символисты активно исследовали державинскую традицию. Ее приметы можно обнаружить и в творчестве представителей других модернистских течений русской литературы – акмеизма и футуризма.
Например, Ю. Н. Тынянов связывал развитие русского футуризма с возрождением традиций русского классицистического искусства: «Русский футуризм был отрывом от срединной стиховой культуры XIX века. Он в своей жестокой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает ему руку через голову XIX века. Хлебников сродни Ломоносову. Маяковский сродни Державину» [8].
Вполне справедливо, что интерес к личности Г. Р. Державина сильно возрос в это время. В «Новом журнале» (1967, № 89) опубликована рецензия О. Ильинского, посвященная книге Хельмута Кёлле о Г. Р. Державине, вышедшей в 1967 году в Мюнхене на немецком языке. О. Ильинский отмечает, что «книга Х. Кёлле может быть рассмотрена двояко. Автор, с одной стороны, выявляет и приводит в систему основные приемы и закономерности державинского восприятия в изображении природы, а с другой, подводит литературоведческие итоги изучения творчества Державина за полтора века» [Цит. по: 4, с. 309]. Основным объектом авторских наблюдений являются цвет, свет, звук в поэтике Г. Р. Державина.
Э. Райс в журнале «Возрождение» (1968, № 4) к 150-летию со дня смерти поэта опубликовал статью «Вечная юность Г. Р. Державина», в которой подчеркивает, что Г. Р. Державин – действительно «неисчерпаем». Он вечная юность России и ее будущее. Критик пишет о значении поэзии Г. Р. Державина, о его религиозной лирике, отмечая, что «не одними торжественными одами Державин велик. Он оставил также немало коротких стихотворений, попеременно шутливых и серьезных, веселых и печальных, славящих радости и красоту жизни и природы» [Цит. по: 4, с. 310]. Статья полна чувства восхищения гением Г. Р. Державина, который стал нам ближе яркостью и свежестью своего языка.
В 1993 году Б. А. Успенский готовит доклад, который называется «Язык Державина (к 250-летию со дня рождения)». В нем ученый говорит о поэтическом языке Г. Р. Державина и его самобытности: «Державин самобытен в точном и буквальном смысле этого слова. Он самобытен потому, что он самостоятелен. Он самобытен не в негативном (полемическом), а в позитивном смысле» [9].
В 1996 году в своей статье, посвященной Г. Р. Державину, С. С. Аверинцев писал о том, что «невероятная крупность, размашистость державинских образов возможна только у него и в его время» [1, с. 137]. Также ученый приходит к выводу о том, что «для следующих поколений перестает быть понятным его монументальное видение России, в котором еще живет вдохновение реформ Петра» [1, с. 137]. С. С. Аверинцев сравнивает поэзию Г. Р. Державина с явлением природы, так как в творчестве поэта «первозданная энергия древнего витийства и новая, свежая свобода в пользовании лексическими и образными контрастами взаимно усиливают друг друга, доводя экспрессию целого до силы поистине стихийной». И кажется, что поэзию Державина можно сравнить только с явлением природы» [1, с. 137].
Подводя итог, можно отметить, что поэзия Г. Р. Державина не перестает быть актуальной и исследователи постоянно открывают что-то новое в его творчестве. Современное отношение к Г. Р. Державину не должно быть односторонним. То, что мы признаем в нем поэзией, не следует вырывать из контекста всего им написанного, даже если среди этого наследия есть много неудобочитаемого. Понять поэта правильно, не противопоставляя историческую оценку эстетической, можно только в том случае, если мы поймем, как могли уживаться в творчестве Г. Р. Державина поэтическое прозрение и рассуждение в стихах, гневные филиппики против тиранов и необыкновенная чуткость ко всему новому в русской и мировой поэзии его времени. Творчество Г. Р. Державина многогранно: в нем нашли отражение героические переживания его времени и класса, хорошо знакомый ему быт дворянской России; в нем звучат гражданские мотивы и мотивы смерти, мифологические и любовные мотивы, патриотическая и сатирическая темы и т. д. Идеал Г. Р. Державина – довольствоваться малым, придерживаться «умеренности» неприхотливого семейного быта «бедного дворянина». Вразрез с этим совершенно неприемлемо для него восхваление «вредной роскоши вельмож». Большое богатство державинских сочинений может привлечь внимание не одного поколения исследователей.