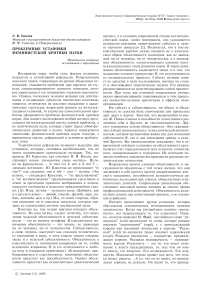Проблемные установки феминистской критики науки
Автор: Евсеева Людмила Валерьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Методология гендерных исследований в образовании
Статья в выпуске: 3 (4), 2009 года.
Бесплатный доступ
Анализу подвергается «анатомия» феминистской критики науки изнутри. Критически исследуется категория объективности, обусловленная семантическим истолкованием понятия «реальность». Делаются выводы в пользу проведения теоретических исследований, включающих в свою методологию ориентиры на женский опыт, интуицию и апелляцию к сердцу. Акцентируется внимание на специфике познания, находящегося на пересечении «разум - сердце», объединяющее ментальность и чувствование, рациональность и эмоции, дающее эффект синергийного во взаимодействии этих начал.
Женский опыт, женщина как действующий и познающий субъект, трансформация социокода, легитимация статуса женщин
Короткий адрес: https://sciup.org/14821431
IDR: 14821431
Текст научной статьи Проблемные установки феминистской критики науки
Восприятие мира, чтобы стать фактом познания, нуждается в когнитивной рефлексии. Репрезентация женского опыта, отраженная на. уровне обыденных отношений, становится проблемой при переходе на. ступень специализированного научного познания, которое характеризует так называемая «мужская перспектива». Однако, поскольку позиция женщин как действующих и познающих субъектов постепенно восстанавливается, отмечаются их массовое вхождение в академические структуры, возросший уровень их интеллектуального влияния, то в качестве самостоятельной проблемы оформляется проблема феминистской критики науки. Для нашего исследования особый интерес представляет интеллектуальный аспект данной проблемы, а не политические цели, которые ставит перед собой феминистское движение в целом. Анализу подвергается «анатомия» феминистской критики науки изнутри, с выявлением связок, деформаций и основных проблемных точек.
Теоретическая рефлексия позволяет выделить ряд установок, которые, оставаясь проблемными, тем не менее подпитывают критическую позицию. Так, например, Ю. Кристева, как отмечает П. И. Ильин, выстраивает новую этимологию слова, «истина». Истина. на. французском — le vre e l (от le vrai и le re e l”) — «реально истинное». Ю. Кристева. же представляет “le vree’l” как сложение vrai и elle — она. — истина. «Эта. истина, — утверждает Кристева, — “не представляема” и “не воспроизводима” традиционными средствами и лежит за пределами мужского воображения и логики, мужского господства и мужского правдоподобия» (цит. по: [1]). Итак, истина — женского рода. (Добавим, как и в русском языке — правда, совесть, дружба, вера, любовь, надежда, цель и пр.) Мы, со своей стороны, обратим внимание на те властные импульсы, которые связаны со стремлением достичь поставленной цели.
Конечно же, под острие критики попадает объективность. На. наш взгляд, следует отметить, что оппозиция мужской объективности и женской субъективности — это во многом метафора. В классическом понимании объективность — это знание, не зависящее ни от человека, ни от человечества. Субъективность, в свою очередь, выступает как синоним человеческого отношения к миру, в этом смысле можно говорить также и о мужской субъективности. Объективность в классическом ее понимании направлена на то, чтобы исключить вторжение Я (в его отнесенности к любому полу и гендерной ориентации). «В измерении, приближающемся к классическому, понимание объективности предстает как внесубъектность. Однако объективность предстает как исключительно диалектический процесс, а в условиях современной стадии постнеклассической науки, особо подчеркнем, она усложняется ценностно-целевыми ориентациями субъекта, и самого научного процесса» [2]. Получается, что в постнеклассической картине нужно говорить не о классическом образе объективности (повторим, как не зависящей ни от человека, ни от человечества), а о понимании объективности, соответствующем данному (постнеклассическому) этапу развития науки. В таком понимании объективность заключается также и в том, что мышление осознает присутствие Я, его неустранимость из познавательного процесса. Субъект активно влияет на средства и цели исследования, именно он создает и обосновывает теоретические модели. Его влияние распространяется на конституирование самой предметности. При этом, как отмечают современные ученые, важно проанализировать появляющиеся в этих процессах ценностно-целевые ориентации и эффекты самоорганизации.
Ни субъект и субъективность, ни объект и объективность не должны быть уничтожены или принесены друг другу в жертву. Заметим, что выдающийся психолог Ж. Пиаже именно в способности когнитивного различения себя и Другого, во «внеположенности» Другого усматривал основу объективности. Она складывалась и была взаимосвязана с психологической автономностью, которая чрезвычайно важна как для осознания собственного Я, так и для понимания границ и отличий Другого. Все вышесказанное доказывает, что в современной ситуации установка на объективность предполагает учет определенности трех аспектов: когнитивного, эмоционального и гендерного. Их сочетание позволит наиболее адекватно воспроизвести реальные познавательные отношения.
Возражения против слияния объективности и маскулинности объяснимы с той точки зрения, что они заключают в себе протест против дискриминации женского мышления, способностей женщин-научных работников, исследователей, ученых, общественных и политических деятелей. Современная цивилизация обеспечивает массовый приток женщин во многие сферы профессиональной деятельности. Объективность должна быть понята как когнитивный признак, а не гендерная атрибуция.
Интерес представляет другая установка, которая обусловлена семантическим истолкованием понятия «реальность». Когда мы употребляем понятие «реальность», мы подразумеваем то, что существует. Однако, согласно выводам М. Фрай, «английское слово “реальность” (real) происходит от слова, которое раньше означало “королевский” (regal), т. е. принадлежащий королю или имеющий отношение к королю. “Реальный” (real) по-испански также означает королевский (royal). Реальное имущество — имущество, принадлежащее королю. Реальная недвижимость — недвижимость короля. Реальность — это то, что имеет отношение к власть предержащему, то, над чем он имеет власть, его владение. Его недвижимость. Его имущество. Идеальный король правит над всем, что только может увидеть. ...А то, что он не видит, не принадлежит королю, не реально. Он видит то, что принад- лежит ему» (цит. по: [3: 93—94]). Эти рассуждения направлены на то, чтобы высветить механизм конструирования реальности. Реальность определяется в зависимости от того, «кто на не¸ смотрит», т. е. от точки зрения. В рамках патриархатной культуры на реальность смотрят, в основном, глазами мужчин. Женский опыт, женская практика неведомы, следовательно, в сегментах, составляющих реальность, их не существует. Под маскулинным взглядом в реальности проявляется и высвечивается маскулинный опыт. Того, что не обнаружено и не признано в реальности, не может быть и в концептуальной схеме.
След идеи о доминировании мужского взгляда на реальность обнаруживается в выводах британского философа-аналитика, выдающегося исследователя языка Дж. Л. Остина. При выявлении связи между представлением о реальности и языком он убедительно показывает, что «cущecтвующий oбoбщeнный нaбoр cлoв включaeт в ceбя вce тe рaзгрaничeния, кoтoрыe мyжчины пocчитaли дocтoйными oбoзнaчeния, в тeчeниe жизни мнoгих пoкoлений» (Там же: 99). Здесь важно прямое указание именно на гендерную зависимость дискурса, которое исходит не из-под пера феминистски настроенной исследовательницы, а от имени философа-мужчины.
На наш взгляд, в настоящее время в целях легитимации статуса женщин перспективна договорная работа по изменению принятых социальных правил со всей совокупностью их правового обеспечения. Одновременно должен изменяться социокод ожиданий аудитории. Иными словами, эстетически образ женщины должен использоваться не только в сфере моды и т. п., но и в науке, политике, деловом администрировании. Как уже было отмечено, ведущими, на наш взгляд, представляются технологии договорных практик. Они направлены на объяснение необходимости представить опыт женщин в современном теоретическом знании и, в принципе, на изменение общественного сознания. Опыт женщин должен быть включен в производство знания, а теория должна быть адекватной тем реалиям, которые имеют место в действительности и представлены не только мужской, но и женской половиной человечества. В целом установки феминистской критики науки можно систематизировать следующим образом.
Во-первых, речь идет о попытках получить такое знание, в котором теория была бы соединена с повседневной практикой и личным, персональным опытом. Позитивный смысл жизненного опыта должен не только прорваться в теорию, но и утвердиться в ней.
Во-вторых, по-новому оценивается эмоциональное содержание утверждений. Эмоциональность идет в зачет при решении вопроса об истинности, а не оценивается как негативный компонент на пути получения истинного знания.
В-третьих, с новой силой поднимается проблема моральности исследования, этики и ответственности ученого.
В-четвертых, признается ведущая роль междисциплинарного, а точнее, мультидисциплинарного подхода, который бы силами многих дисциплин воссоздал целостный облик современных социокультурных реалий, обозначив в них участие женщин.
В-пятых, при анализе взаимодействий с природой и с учетом установок экофеминизма, в которых женщина выступает символом близости к природе, необходимо усиление императивов экологического мышления. Протест против губительного воздействия на природу рассматривается как важный приоритет нового подхода.
В-шестых, обосновываются высокий образовательный уровень современных женщин-ученых и научных работников, их навыки по сбору, систематизации и интерпретации фактического материала, нацеленность на учет мелочей и детализацию исследований. Поэтому совершенствование науки предполагает увеличение количества женщин в ее академическом ядре.
В-седьмых, необходим учет тех интеллектуальных достижений, которые связаны с синергийным мирови-дением. «Тип критического интеллектуализма видится как одна из альтернативных моделей, противостоящая прежнему монологизму» [4]. Здесь имеется в виду отнюдь не элементарное «добавление женщин». На наш взгляд, синергийная методология всем своим понятийным аппаратом ( бифуркация, флуктуация, аттрактив-ность, энтропия, фрактальность, упорядоченность и ха-осогенность ) исключительно эффективна при изучении «ускользающего» бытия фемининности. Ее исключительное значение состоит еще в том, что фемининность может изучаться во взаимодействии с маскулинностью, как в жизни и происходит. Именно синергетика указывает на эффект корпоративного поведения, предлагает осмысление практики совместной реализации женского и мужского. Синергетику называют «теорией образования новых качеств. В разрабатываемой синергетической культурологии предполагается движение в направлении суператтрактора (абсолютного идеала)» [5]. Современное содержание данного суператтрактора может быть понято с привлечением синергии потенциала фемининного и маскулинного начал.
В связи с обозначенными приоритетами, мы склоняемся к обоснованному выводу, состоящему в следующем. Теоретические исследования, включающие в свою методологию квоты и ориентиры женского опыта и «женского взгляда» на мир, актуализируют императив — познавать явления, не уничтожая их индивидуальность. Отсюда к традиционным средствам и инструментам познания, в противовес генерализующему методу, прибавляются не просто и не только интуиция и индивидуализирующий подход, но и апелляция к сердцу, значимость которого очень убедительно показана мировой художественной культурой. При осмыслении экзистенции бытия невозможно исключить человеческое сердце. Паскаль в свое время отмечал, сколь сложна работа, идущая от сердца и через сердце. Сердце предстает как орган «внутреннего чувства», «чувственной интуиции», сердце «чувствует первые принципы бытия» (цит. по: [6]). Примечательно, что еще в философии XVII в. был сделан вывод: «Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем». Эта установка отозвалась в начале ХХ в. в выводах В. Виндельбан-да, который отмечал, что «человек в своем рациональном стремлении к познанию должен в большей степени следовать влечению своего сердца к полной предчувствиями вере и такту жизненного благородства» [7].
На наш взгляд, «подсказки», а точнее, идеи, содержащиеся в истории мировой культуры и философии, настолько значимы, что позволяют подходить к познанию на иных основаниях. Познание, находящееся на пересечении «разум—сердце», объединяет ментальность и чувствование, рациональность и эмоции, дает эффект синергийного во взаимодействии этих начал.
Список литературы Проблемные установки феминистской критики науки
- Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа/И. П. Ильин. М.: Интрада, 1998. С. 149.
- Степин В. С. Саморазвивающиеся системы: стратегия познания и деятельности/В. С. Степин//Рационализм и культура на пороге 3-го тысячелетия. Ростов н/Д., 2003. С. 42-65.
- Дворкина О. В. Женщины, познание, реальность. Исследования по феминистской философии/О. В. Дворкина; пер. с англ. М.: Росспэн, 2005.
- Жеребкина И. Субъективность и гендер: гендерная теория субъекта в современной философской антропологии/И. Жеребкина. СПб.: Алетейя, 2007. С. 143.
- Бранский В. П. Теоретические основания социальной синергетики/В. П. Бранский//Петерб. социология. 1997. № 1. С. 148-179.
- Стрельцова Г. Я. Паскаль/Г. Я. Стрельцова//Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2001. Т. 3. С. 208.
- Виндельбанд В. История философии/В. Виндельбанд. Киев, 1997. С. 334.