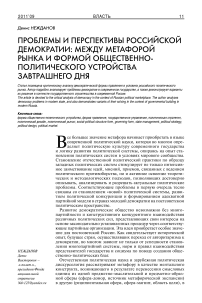Проблемы и перспективы российской демократии: между метафорой рынка и формой общественно-политического устройства завтрашнего дня
Автор: Нежданов Денис Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 9, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена критическому анализу демократической формы правления в условиях российского политического рынка. Автор подробно анализирует проблемы демократии в современном государстве, а также демонстрирует варианты их решения в контексте государственного строительства в современной России.
Форма общественно-политического устройства, форма правления, государственное управление, политическая стратегия, политический дизайн, политический рынок
Короткий адрес: https://sciup.org/170165992
IDR: 170165992
Текст научной статьи Проблемы и перспективы российской демократии: между метафорой рынка и формой общественно-политического устройства завтрашнего дня
В се большее значение метафора начинает приобретать в языке современной политической науки, которая во многом определяет политическую культуру современного государства и логику развития политической системы, опираясь на опыт становления политических систем в условиях мирового сообщества. Становление отечественной политической практики по образцу западных политических систем стимулирует не только интенсивное заимствование идей, мнений, приемов, связанных с ведением политического противоборства, но и активное освоение теоретических и методологических подходов, позволяющих достоверно описывать, анализировать и разрешать актуальные политические проблемы. Соответствующие проблемы в первую очередь тесно связаны со становлением «новой» политической системы, развитием политической конкуренции и формированием адекватной партийной модели в странах молодой демократии на постсоветском политическом пространстве.
НЕЖДАНОВ Денис
Р-азвитое демократическое общество невозможно без многопартийности и конструктивного конкурентного взаимодействия различных политических сил, представляющих свои интересы на основе законодательно установленных процедур через соответствующие партийные организации. Эта идея приобретает особое значение для постсоветской Р-оссии. Как свидетельствует исторический опыт, будущее стран, осуществлявших переход от авторитаризма к демократии, во многом зависит не только от успешности становления многопартийной системы, норм и правил взаимодействия представителей государства и социума по поводу создания общественно-политических благ.
Отечественная политическая наука и зарубежная политическая дискурсология рассматривают метафору в качестве ментального конструкта, возникающего в результате перенесения смысловых единиц из одной предметно-мыслительной и предметно-образной сферы (сфера-донор, источник метафорической экспансии) в другую (реципиентальная сфера, сфера-магнит, область цели), в результате чего образуются новые смыслы, выстраиваются новые дискурсивно-концептуальные комплексы.
На данный момент изучение политического рынка в отечественной политической науке как целостной метафорической системы, включающей такие производные метафоры (субметафоры), как политический маркетинг, политический капитал, политический франчайзинг, политический бренд, партийный дизайн и др., и определение границ ее объяснительного потенциала не нашли в полной мере исчерпывающего применения в политических исследованиях.
Между тем, использование продуктивных метафор и производных терминов в анализе политической жизни современной Р-оссии как теоретико-методологических схем способно в ряде моментов служить отправной точкой при анализе и прогнозировании социально-политического развития страны, благоприятствуя формированию сравнительно молодого российского государства. Вышеизложенное актуализирует применение метафоры рынка в исследовании политического развития современной Р-оссии, проводящемся через призму анализа политических реалий, не только в контексте теоретических изысканий, но и как основания для разработки и внедрения новейших политических практик, связанных с развитием демократической политической системы, парламентаризма, формирования ключевых игроков политического рынка – партий.
Вместе с тем мировые кризисы последних лет отчетливо продемонстрировали, что некогда популярные формы политической организации общества системно деградируют. Демократия как привилегированная форма организации политической власти заложила основу для дискредитации собственного потенциала в качестве базиса общественно-политического устройства в подавляющем числе современных государств, что закономерным образом делает актуальным вопрос о преемственности демократической формы правления как на уровне политической терминологии, так и на уровне политической практики.
Мировой кризис проявился в деградации институтов демократической власти во всем мире. В Е-вропе это проявилось в кризисе института партии, с которыми граждане современного Е-ЭС связывают все меньше надежд на повышение эффективности государственного управления.
Во Франции, например, на рубеже 80– 90-х гг. лишь 39% граждан были удовлетворены тем, как партии выполняют свои представительскиех функции, 54% – были не удовлетворены, а сами политические партии в течение 1980-х гг. потеряли около половины своих членов.
Согласно опросам, проводимым в Германии в 1997 г., только 24% респондентов выразили доверие к партии как политическому институту, в то время как 73% граждан Германии демонстрировали недоверие к ним1.
Любопытно, что и в современных США-данные опросов в целом свидетельствуют, что граждане избегают той или иной партийной идентификации. Согласно исследованиям, более 50% респондентов не считают себя приверженцами той или иной партии даже в том случае, когда интервьюер формулирует вопрос в закрытой форме («Сторонником республиканской или демократической партии Вы себя считаете?»).
Необходимо отметить, что, например, в США- выборы президента превратились в шоу, где в связи с особенностями избирательной системы кандидаты, получившие меньшее количество голосов, способны выигрывать выборы, оставляя позади даже кандидатов с более многочисленной поддержкой. (Дело в том, что в Соединенных Штатах на выборах всех уровней при наличии двух кандидатов победа одного из них достигается зачастую с очень незначительным преимуществом. Так, например, в 1960 г. на президентских выборах за Кеннеди был подан 34 266 731 голос, за его соперника Никсона – 34 108 157 (разница составляла 0,17 %); в 1968 г. за Никсона было подано 31 785 480 голосов, за Хэмфри – 31 275 166 (разница – 0,81 %); в 1976 г. за Картера было подано 40 380 763 голоса, за Форда – 39 147 973 (разница – 1,59 %)2. И совсем анекдотичная ситуация, по свидетельству Н. Жаглея, сложилась на президентских выборах в 2000 г., когда с незначительным перевесом голосов победил Гор, однако из-за особенностей избирательной системы США- главой государства стал Б-уш).
Наметился и кризис ранее господствующих политических идеологий.
Ярким примером специфического развития современного политического объединения в Е-вропе выступает опыт трансформации Коммунистической партии Ч-ехии и Моравии, которая не стала менять название, но поменяла сущность и логотип. Партия покаялась в грехах своих коммунистических предшественников, выбрала новую символику – две вишенки (перед одними из последних выборов в парламент каждый житель Ч-ехии получил от коммунистов рецепт вишневого пирога) и не допустила к партийному рулю ни одного представителя старой партийной гвардии.
Но что еще более важно, партия отказалась от пропаганды и разработки программ и законопроектов в духе классической коммунистической идеологии социального равенства и справедливости. В итоге в основу возросшей популярности партии была положена, например, не инициатива о закреплении прогрессивного налогообложения в духе шведской модели социализма, пользующейся уважением у современных чешских коммунистов, а агитация за безопасный секс и законопроекты о легализации однополой любви. Поэтому не удивительно, что в ряды чешской компартии сегодня приходит все больше молодежи. По свидетельству специалистов, «о КПЧ-М никак не скажешь, что это вымирающая партия, чей электорат состоит сплошь из пенсионеров»1. В свою очередь, о политической эффективности такого рода шагов свидетельствуют те 40 мандатов, которые получила партия на выборах в парламент страны в 2002 г.
Строго говоря, государственные деятели в условия демократического правления, по меткому замечанию отечественного политолога С. Пшизовой, вообще больше склонны формулировать политику, чтобы выигрывать на выборах, а не выигрывать на выборах, чтобы формулировать социально ориентированную политику во благо общества и государства.
Как отмечает В.С. Мартьянов, «ценностные идеологии трансформируются в прикладные политические технологии – заложенные в них ценности и цели либо уже реализованы, либо более не актуальны, но продолжают использоваться благодаря эффекту последействия или симуляции»2. Р-езультатом этого процесса становится активное смешивание антагонистических ценностей, предлагаемых классическими идеологиями как в Р-оссии, так и за рубежом.
В связи с этим конфигурации, или, иначе говоря, формы российского партийного дизайна, подвержены «скороспелой» динамике, отвечающей все новым и новым требованиям изменяющегося политического рынка. В роли идентифицирующих партии признаков начинают выступать разного рода «прагматизмы», «центризмы», «патриотизмы», «социал-консерватизмы»3, различного рода секулярные «фундаментализмы», поставленные на конвейерное производство знаменитости, «замишуренные» «стары» из сфер кино, телевидения и СМИ (Н. Б-асков, О. Федорова – «Р-одина»; С. Михалков – НДР-; И. Кобзон, А-. Р-озенбаум, А-. Б-уратаева, С. Б-езруков, О. Газманов – «Е-диная Р-оссия» и т.д.).
Так, основной целью современного партийного дизайна (как производной субметафоры от метафоры «политический рынок») сегодня становится повышение, с одной стороны, «политической рентабельности», с другой – «политической ликвидности» партии, определяемой (по аналогии с термином рыночной экономики) как способность к постоянной смене собственных политических форм – самой партии, ее идеологии, политики управления партией, а также изменению кадрового состава ее руководящих органов с целью приобретения наибольшего политического влияния, временной популярности и актуальной политической поддержки избирателями.
Любопытно в связи с этим выглядела 16 ноября 2008 г. обнародованная «Р-усским радио» информация о саморос-пуске партии «Союз правых сил» и создании на ее базе политического движения «Правое дело», где одним из представи- телей руководящих органов становится глава ОА-О «Р-ОСНА-НО» А-. Ч-убайс. В сообщении подчеркивалось, что представители руководящих органов, в соответствии с уставом будущей партии, не обязаны быть ее членами. Теоретически это предполагает возможность руководить «Правым делом» членам «Е-диной Р-оссии» или иных думских партий. С другой стороны, этот пункт устава снимает зависимость партии от имени того или иного лидера. Представляется, что выход из СПС Н. Б-елых неблагоприятно отразился на имидже партии. Отсутствие же членства лидеров партии в самой партии страхует политическую организацию от подобных демаршей лидеров и тем самым ослабляет зависимость инвесторов от воли соответствующих политических звезд. Все это во многом открывает возможности для политического маневрирования, например смены тройки лидеров, что обеспечивает исключительную политическую ликвидность как руководящих органов партии, так и ее лидерского состава, а также открывает более широкие возможности для толкования идеологической платформы и раскрутки нового политического бренда без установления необходимости расположения идеологической ниши новой партии в русле исключительно правой идеологии. Под брендом «Правое дело» вполне возможно временами избегать популяризации правой идеологии и ориентироваться на понятие «справедливость» как синоним «правого дела» в сознании россиян.
На политическом рынке, равно как и на рынках частных благ, торговые марки и бренды увязываются не столько с полезными потребительскими свойствами продуктов, сколько с символическими образами определенных стилей потребления. Люди желают быть причастными к бренду, потому что с ним ассоциируются известные лица, задающие определенные стили потребления. Эти стили, таким образом, во многом выполняют функции постмодерновых вариантов политических идеологий, принимая формы квазиидеологий. В последних могут угадываться родовые признаки классических идеологий, что, однако, не мешает эксплуатирующим их политикам достаточно свободно переходить от одних программных положений к другим, иногда противоположным, при этом лишь отчасти рискуя попасть впро- сак на выборах и потерять долю традиционного электората. Главенствующим же признаком современных квазиидеологий выступает их ассоциативная символическая насыщенность, способная в ряде случаев вернуть современного избирателя в его прежнее дезинформированное «первобытное» состояние – состояние, позволяющее в условиях кризиса программно-идейной политической мобилизации относительно эффективно управлять им. Таким образом, человек «становится инструментом навязанных ему синхронизированных, систематизированных, типизированных и политически ангажированных процессов»1.
Необходимо отметить, что партии как неотъемлемый атрибут политической системы современного демократического государства перестали быть избирательными машинами, в которых человек, даже будучи винтиком, имел свое маленькое значение для воспроизводства политической власти. Новая информационная эпоха, войдя в российскую политику, успешно заменила небольшую роль человека-винтика, представлявшего своего рода h ardware власти, большой ролью его эмоционально-психологического состояния, программного обеспечения – software , занявшего все мыслимые и немыслимые емкости и полости этого самого винтика в ходе выполнения им его исконной функции по выборному производству демократической власти. Именно в результате этого технологией борьбы за власть стала практически неуловимая и не диагностируемая интеллектуальная война, напоминающая войну химико-бактериологическую, причем инструменты первой войны (интеллектуальной) – политические идеи, по меткому определению заместителя председателя Фонда национальной стратегии Н.Н. Неждановой, – «мутируют быстрее, чем самовоспроизводятся. Заинтересованные лица пытаются их причесать под старый партийный образ, который хотя бы условно гарантирует получение желаемой доли политической власти».
В некоторых случаях демократическая идеология вообще становится инструментом геополитического передела власти, поводом «обложить динамитом» политических оппонентов. Так, например, это произошло в Ираке в ходе реализации политики давления на Б-лижний Восток со стороны США-, равно как и в Украине, а затем и в Грузии, где при помощи «оранжевых революций» была дестабилизирована политическая ситуация и внесен гражданский раскол в политический строй по методу «разделяй и властвуй».
Строго говоря, демократия в американской транскрипции стала инструментом идеологического манипулирования, разрушения национального суверенитета и политического подчинения многих государств, чей политический строй был пропущен через фильтры американской политической доктрины. В результате этого многие страны лишились самобытной государственности, подорвали свою экономику и внесли значительный диссонанс в ход естественного исторического процесса национального и государственного самоопределения.
Политика разрушения и страха, кон- фронтационная силовая политика, на идеях которой авантюристы пришли к власти в США-, привела к разорительным войнам во многих странах, а политика наращивания финансового благополучия без учета долгосрочных последствий подорвала здоровье нации. Но мода на американский стиль жизни, столь уверенно насаждаемая по всему миру, сделала почти неразличимыми вечные и конъюнктурные ценности. Одним из результатов тотальной зависимости от политической стратегии и коммуникативной лидерской доктрины мировой гегемонии США- стал риск краха мировой финансовой системы.
Представляется, что одним из путей выхода из сложившейся ситуации, связанной с гегемонией США- на политическом и финансовом мировых рынках, может стать разработка и внедрение альтернативной прогрессивной формы общественнополитического устройства, способной нивелировать идеологическую роль США-как мирового «демократического» судьи с безусловным авторитетом.