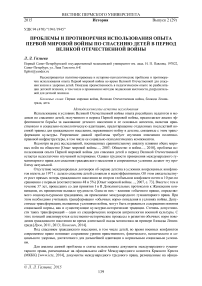Проблемы и противоречия использования опыта Первой мировой войны по спасению детей в период Великой Отечественной войны
Автор: Газиева Л.Л.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российское общество в условиях военных конфликтов
Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются политико-правовые и историко-психологические проблемы и противоречия использования опыта Первой мировой войны во время Великой Отечественной для спасения жизни и здоровья детей. Показана преемственность в педагогическом опыте по реабилитации детской психики, в том числе в применении методов подавления жестокости, разрушительной для детской психики.
Первая мировая война, великая отечественная война, блокада ленинграда, дети
Короткий адрес: https://sciup.org/147203626
IDR: 147203626 | УДК: 94
Текст научной статьи Проблемы и противоречия использования опыта Первой мировой войны по спасению детей в период Великой Отечественной войны
Методологические аспекты исследования
Использование в условиях Великой Отечественной войны опыта российских педагогов и медиков по спасению детей, полученного в период Первой мировой войны, предполагает анализ эффективности борьбы за выживание детского населения и ее основных аспектов, включая нравственную и социально-психологическую адаптацию, предотвращение отдаленных последствий военной травмы для гражданского населения, пережившего войну в детстве, связанные с этим трансформации культуры. Разрешение данной проблемы требует изучения изменения политикоправовой инфраструктуры, в том числе ее социально-психологических компонентов.
Несмотря на ряд исследований, посвященных сравнительному анализу влияния обеих мировых войн на общество [Опыт мировой войны…, 2007; Общество и война…, 2010], проблема использования опыта Первой мировой войны для спасения детей в период Великой Отечественной остается недостаточно изученной историками. Однако трудности применения международного гуманитарного права для спасения гражданского населения в современных условиях делают эту проблему актуальной.
Отсутствие международных договоров об охране детства в условиях вооруженных конфликтов вплоть до 1977 г. делало спасение детей сложным и малоэффективным. Об этом свидетельствует рост прямых потерь гражданского населения во втором глобальном конфликте почти в 10 раз по сравнению с первым (соответственно 48 и 5%) [Опыт мировой войны…, 2007, с. 73]. Вместе с тем в течение 37 лет, прошедших со дня принятия I и II Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям, их применение вызвало трудности. Одна из них – влияние «обычного права», определяемого социокультурными традициями, на применение международного гуманитарного права. При этом необходимо учитывать трансформацию «обычных норм» поведения в условиях войны. Допустимые трансформации, вызванные условиями войны, могут быть отражены в содержании понятия социальной нормы, как и существующие культурно-исторические традиции. Степень допустимости таких трансформаций – один из специфических вопросов антропологии военной культуры. С этих позиций анализируются естественно-исторические процессы в развитии обычных норм поведения гражданского населения во время длительной осады мегаполиса на примере блокады Ленинграда [ Яров , 2011, 2013; Пянкевич , 2014].
Под спасением гражданского населения, в том числе детей, во время военных конфликтов современное право понимает сохранение уровня нравственного, физического, психического и социального здоровья, достаточного для дальнейшей адаптации к нормальным социальным условиям.
Для анализа данной проблемы в статье использованы документы международного гуманитарного права, размещенные на официальном сайте Международного комитета Красного Креста (МККК) [, 2014], документы международного трудового права, размещенные на офици-
альном сайте Международной организации труда [, 2014].
Публицистические произведения периода глобальных войн 1914–1918 и 1941–1945 гг. позволяют рассмотреть этико-эстетические аспекты осмысления военного насилия в отношении детей и его последствий [ Брусянин , 1917; Левитов , 1943; Бугреева , 1944; Maurer , 1950]. Исследование эмоциональной инфраструктуры политики во взаимосвязи с последствиями травм детской психики дают возможность определить устойчивость переживаний, связанных с насилием в детском возрасте, а также влияние эмоциональных переживаний масс на политические тенденции [ Girling , 2006; DeMause , 2008]. На особое значение эмоциональных переживаний детей, связанных с военным насилием во время Первой мировой войны, для развития послевоенных общественных взаимоотношений указывают современные антропологические исследования [ Потемкина , 2007; Сальникова , 2007]. Мало знакомы исследователям свидетельства о состоянии детей и мероприятиях по их спасению, содержащиеся в воспоминаниях и дневниках воспитателей дошкольных учреждений блокадного Ленинграда, представленные в коллекции Народного музея педагогического колледжа № 8 Санкт-Петербурга «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда» (НМПК. Ф. Щ. Оп. 2. Д. 10. Л. 184–186).
Основные направления развития международного гуманитарного права в 1907–1944 годах
Начало институционализации прав ребенка в эпоху оружия массового поражения было положено принятием 18 октября 1907 г. IV Гаагской конвенции, которую мы вправе считать гениальным детищем российской дипломатии. В содержании конвенции прямо не оговаривались права детей, но указывалось: «Впредь до того времени, когда представится возможность издать более полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны считают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются под охраною и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания» [IV Гаагская конвенция. Преамбула]. Именно эта формула позволила мировому сообществу предъявить гитлеровским преступникам в 1945 г. обвинение в нарушении человечности и на основании действующего обычного военного права разработать Устав международного трибунала, осудившего военных преступников.
Однако разрешение проблемы массовых человеческих жертв во время войн и военных конфликтов предполагало заключение международных договоров, способных защитить детей и подростков от военного насилия, как физического, так и психического. Поэтому было необходимо нравственное осмысление прав ребенка с позиций обыденного, научного и правового сознания. Нужно было убедить человечество в важности охраны детства и материнства от насилия как залога того, что у человечества есть будущее.
Эти задачи начали решаться уже в ходе Первой мировой войны.
Многие конкретные положения, выработанные в этот период, получили первоначальное закрепление в обычном праве. Таковы определение статуса детства исходя из возрастных и физиологических особенностей; положения о недопустимости трудовой эксплуатации детей, защите детей от физического и психического насилия, недопустимости распространения военной идеологии среди детей, защите прав детей-сирот и детей-беженцев.
Между двумя войнами в международном трудовом праве был определен правовой статус детства как подлежащего обучению и воспитанию. В 1919–1937 гг. были подписаны 10 конвенций, а также распоряжения к ним, вводившие возрастные ограничения применения детского труда. Минимальный возраст привлечения подростков к производственному труду в 1936–1937 гг. повысили до 15 лет, за исключением учащихся технических школ [Бюро МОТ в Москве].
Эти нормы были учтены при разработке статуса детства в законодательстве РСФСР в 1940– 1944 гг. В советском законодательстве 1936–1943 гг. выделялись нескольких возрастных групп лиц до 18 лет: несовершеннолетние, дети, малолетние дети, подростки. Критерий различения статусов «детство» и «несовершеннолетние»: обучение или трудовая деятельность – соответствовал международному трудовому праву. Группы «детей» и «подростков» до 16 лет, подпадающих под действие закона о всеобуче, отделялись от «несовершеннолетних», т. е. старших подростков 16–18 лет, трудовая эмансипация которых закреплялась в 1942 г. уголовным правом. В Уголовном кодексе РСФСР 1941 г. была дополнительно выделена группа «малолетних» до 12 лет. Эта группа определялась как «дети» при нормировании питания [ Газиева , 2014, с. 43].
В 1943 г. в постатейных комментариях к Уголовному кодексу РСФСР впервые появился юридический термин «подростки». Там же за подростками закрепился статус «учащиеся» [Уголовный кодекс, 1943]. Согласно Постановлению СНК РСФСР № 637 от 14 июля 1943 г. «Об утверждении инструкции об организации учета детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет и о порядке контроля за выполнением закона о всеобщем обязательном обучении» подростки до 15 лет обязаны были обучаться в школах [Собрание постановлений…, 1943].
Рационализация этических аспектов международного гуманитарного права в 1919–1941 годах. Проблема жесткости как культурно-историческая проблема
В период между Первой и Второй мировыми войнами важнейшей проблемой становится рационализация этических аспектов охраны детства и материнства в условиях войны.
В 1919 г. при Лиге Наций был создан Комитет детского благополучия. По инициативе членов Международного союза спасения детей Эглантин Джебб, Януша Корчака, Гюстава Адора на 5-й сессии Лиги Наций в 1924 г. была принята Декларация прав ребенка, содержавшая гуманные принципы защиты детей. Однако она так и не была ратифицирована [Женевская декларация прав ребенка]. Отказ от ратификации свидетельствовал о незрелости обычного права, используемого при решении вопросов охраны детства и материнства, и, как следствие, о необходимости этико-правового осмысления общественным сознанием последствий военного насилия в отношении женщин и детей.
Насилие – военная жестокость и ненависть как реакция на нее, приводящие к трансформации общественного сознания, занимают особое место среди эмоциональных переживаний в период войны. Анализу этих трансформаций, как средству выживаемости гражданского населения на войне, посвящены новейшие исследования блокады Ленинграда 1941–1944 гг. [ Яров , 2011,2013; Пянкевич , 2014].
Так, С. В. Яров, считая, что проявление жесткости по отношению к близким людям в ряде случаев было необходимым во имя спасения в блокадном Ленинграде, отмечает: «Жестокость являлась необходимым условием спасения людей, и она же разрушала этику, делавшую необходимым самый акт спасения: лекарство оказывалось одновременно и ядом, и противоядием» [ Яров , 2011, с. 204].
Развитием этой мысли служит анализ В. Л. Пянкевичем эмоциональных переживаний женщин в период блокады Ленинграда, выражаемых различными слухами. Он приходит к выводу о том, что слухи являлись условием коллективного выживания, отмечая при этом, что самой страшной темой женских разговоров являлась судьба детей. Жестокость по отношению к детям (людоедство, бомбежки в Лычково) переживалась как кошмар: «…видеть раненых и больных детей, совершенно без помощи, было почти непосильно!» [ Пянкевич , 2014, с. 168–169, 422, 468]. Побудительным мотивом к распространению слухов выступало желание знать настоящее и будущее в «словно остановившееся» время блокады [Там же, с. 467–468]. В данном случае блокадные слухи представлены как форма мифологизации сознания в смещенном временном пространстве, а их эмоциональное содержание – как психические трансформации. И С. В. Яров, и В. Л. Пянкевич рассматривают эти трансформации как средство выживания. Однако вскрытые антиномии указывают на глубокий конфликт предписывающих и предсказывающих экспектаций (коммуникативных ожиданий, установок) в данных случаях. Оба автора соглашаются с тем, что этот конфликт разрешался благодаря возникновению фантазий, утопических мечтаний апокалипсического или «пасторального» характера [Там же, с. 378, 475].
Следует заметить, что проблема трансформации общественного сознания в осажденном Ленинграде под влиянием конфликта экспектаций, в том числе связанных с чувствами вины и отчаяния, имеет принципиальное значение, как фактор выживания культурного социума. При этом проблема трансформаций нравственных ценностей, в том числе милосердия и жестокости, является ключевой. Дальнейшее изучение таких трансформаций требует социальной стратификации мемуаристов, чьи воспоминания являются базовым материалом для исследования, чтобы выяснить стереотипы поведения. Необходимо выяснить, в каких случаях апокалипсические фантазии, а в каких рассудочные стереотипы поведения служили способом примирения конфликта экспектаций и какой из этих способов служил сохранению устойчивых культурных взаимосвязей, в конечном счете, выживанию ленинградского населения как культурного социума.
В данном исследовании остановимся на проблеме патриотизма как культурно-исторического стереотипа, связанного с экспектацией военного насилия, способствующего выживанию социума.
Патриотизм как культурно-исторический стереотип, снимающий конфликт экспектаций и способствующий выживанию социума
Жестокость как социально-психологический фактор в условиях войны приобретает идеологический характер. Так, о доминировании идеологической установки на разжигание ненависти к врагу у советского населения как гражданского долга в период Великой Отечественной войны пишет Йекелчик [ Yekelchyk , 2010]. Проблема формирования жестокости у детей и женщин во время и Первой, и Второй мировой войны поднимается многими авторами [ Сальникова , 2007].
Аморальный аспект воспитания у детей жестокости и ненависти, разрушающего их психику, в начале XX в. встречал сопротивление со стороны выдающихся российских педагогов-гуманистов, педиатров, публицистов. Уже в период Первой мировой войны на необходимость отвлекать детей от войны, бороться с формированием у них жестокости, обращал внимание известный публицист В. В. Брусянин в книге «Война. Женщины и дети», одной из первых посвященной этому вопросу [ Брусянин , 1917]. При этом он ссылался на результаты исследования известного психолога В. В. Зеньковского. На коллоквиуме «Дети и война», прошедшем 30 ноября 1916 г. в Киевском университете, Зеньковский, проанализировав переживания детей, отмечал их желание участвовать в войне: одних – чтобы помочь раненым, других – чтобы сражаться [ Брусянин , 1917, с. 123, 124].
Острый конфликт экспектаций был вызван идеологической пропагандой насилия по отношению к врагу как проявления гражданского долга, с одной стороны, и необходимостью гуманного воспитания ребенка – с другой. Данный конфликт российские педагоги и психологи предлагали снимать воспитанием патриотизма как естественного, природного чувства человека, закрепленного рассуждением зрелой личности о своей исторической идентичности. Патриотизм имеет целый ряд важных для здорового развития психики аспектов: любовь к родной природе, к родной истории.
Развитию любви к Родине были посвящены труды многих российских педагогов и психологов в начале Первой мировой войны. Их опыт был использован дошкольной педагогикой в годы Великой Отечественной: труды Е. Звягинцева, В. Зеньковского, С. Левитина, опубликованные в 1914–1915 гг., рекомендовались воспитателям дошкольников в 1944 г. в журнале «Дошкольное воспитание» (орган Наркомпроса РСФСР) [Что читать о воспитании…, 1944].
Богатство внутреннего содержания патриотизма обеспечивало значимость данного компонента в педагогике военной поры, причем мотивация патриотизма любовью к родной природе и истории позволяла достичь реабилитации детской психики. Любовь к Родине, как это свойственно искренней любви вообще, одновременно подавляет излишнюю жестокость и пробуждает чувство собственного достоинства. Несмотря на то что в начале Великой Отечественной войны ненависть к врагу являлась естественной реакцией на агрессию, основной акцент в воспитании делался на восхищение героизмом и любовь к Родине, ее полям, лесам и людям, на уважение к героям.
Противоречия идеологического воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста в период Великой Отечественной войны можно выявить, анализируя материалы журнала «Дошкольное воспитание». Формирование ненависти к врагу ставилось Управлением дошкольного воспитания Наркомпроса РСФСР как основная цель этико-эстетического воспитания детей, несмотря на вмешательство психологов, указывающих на разрушительное воздействие такого воспитания на психику ребенка, и призывы сместить акцент на героический компонент [ Левитов , 1943] вплоть до 1944 г. Однако уже в статье педагога М. Н. Бугреевой, напечатанной в 1944 г., понятие ненависти вытесняется понятием любви. Она как будто ведет полемику с официальной идеологией [ Бугреева , 1944].
В 1943–1944 гг. в советской научно-методической литературе рекомендовалось воспитывать дошкольников через восхищение героизмом. В дневниках, воспоминаниях, как и в статьях военного периода, постоянно встречаются примеры проявления детьми доброты, жалости. Объяснение этому через психологию детского характера давалось в журнале «Дошкольное воспитание», в статьях профессоров Е. А. Аркина и Н. Д. Левитова [ Аркин , 1943; Левитов , 1943]. В этот период содержание воспитательной деятельности в дошкольных учреждениях постепенно меняется: официальная установка на формирование ненависти к врагу сменяется установкой на формирование у ребенка чувства любви и сострадания к раненым бойцам, другим детям.
Наиболее четко данное противоречие проявляется при анализе мотивации поведения детей в дневниках военного времени старшего инспектора районного отдела образования исполкома Куй- бышевского района г. Ленинграда Е. Л. Щукиной. В них почти полностью отсутствует компонент воспитания ненависти к врагу: «Мы наблюдаем сейчас во всех детских учреждениях необыкновенный рост у детей чувства заботы о своем товарище. Вот Галя Б. ошпарила себе дома ножку. Дети окружили ее особенной заботой. Заботливо водили ее. Всячески оберегали, первое приносили, тарелку супа, или второе, давали лучшую игрушку (детсад № 42) …» [Щукина, 2010, с. 101]. В блокадном Ленинграде дети, воспитатели, детские учреждения нередко превращались в источник эмоционального здоровья раненых бойцов, находящихся в госпиталях, а также членов семьи ребенка, взаимодействуя с ними и вовлекая их в единый процесс борьбы за сохранение человеческой культуры. Активное взаимодействие детей и раненых в госпиталях и направление этого процесса на формирование гуманной мотивации поведения детей осуществлялось под руководством научного сотрудника Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена Е. И. Зейлигер-Рубинштейн (НМПК. Ф. Щ. Оп. 2. Д. 10. Л. 184–186).
Таким образом, под влиянием опыта реабилитационной педагогики, психологии и педиатрии в годы Первой мировой войны, а также опыта Великой Отечественной войны официальная идеологическая установка на воспитание у детей-дошкольников ненависти к врагу как гражданского долга сменялась установкой на формирование любви к Родине, восхищения героизмом, сострадания к раненым бойцам и детям-сиротам.
О высокой оценке опыта гуманистического воспитания ленинградских детей американскими публицистами в 1944 г. свидетельствует содержание Бюллетеня Общества советско-американской дружбы [ Maurer , 1950].
Использование опыта реабилитационной педагогики и педиатрии во взаимосвязи в период Первой и Второй мировых войн характерно как для советской, так и для американской и европейской педагогики. В США более десятка госпиталей и научных центров занимались проблемами реабилитации детской психики начиная с 1914–1938 гг. вплоть до 1948 г. и позднее [Pediatrics and the emotional needs…, 1948].
Реабилитация детей-сирот и детей-беженцев через лагеря беженцев и приюты
Важным аспектом влияния социокультурных взаимосвязей на организацию спасения детей является борьба с беспризорностью, безнадзорностью и реабилитация детей-сирот и детей-беженцев. В 1915–1917 гг. в России, как и в других воюющих странах, принимались меры для защиты детей-беженцев: выплачивались денежные пособия (месячное пособие на ребенка составляло 2 руб. 40 коп.), создавались специальные «беженские городки», детские приюты [ Потемкина , 2007, с. 73, 77; Сальникова , 2007, с. 519]. Опыт организации детских площадок для детей-сирот и детей-беженцев как средства борьбы с беспризорностью получил распространение в годы Первой мировой войны и использовался при эвакуации советских детей в 1941–1943 гг. в колхозы и совхозы. Научно-методическое руководство работой таких площадок оставалось в центре внимания НКП РСФСР весь период войны [ Устюжанинова , 1941, 1944; Инструкция по изготовлению…, 1942].
Советские специалисты, осуществлявшие научно-методическое руководство дошкольным воспитанием во время Великой Отечественной войны, приступили к этой работе как реабилитационной еще в период Первой мировой. Так, Е. А. Аркин, доктор педагогических наук, консультант Центрального научно-методического дошкольного кабинета Народного комиссариата просвещения РСФСР, был председателем специальной комиссии, занимавшейся устройством очагов для детей-беженцев и подготовкой воспитателей в период Первой мировой войны. Как и Януш Корчак, он начинал со спасения детей-беженцев под Киевом. Позже, в 1936 г., первым в нашей стране защитил докторскую диссертацию по педагогике дошкольного воспитания [Некролог, 1948]. Однако гуманистическое направление в педагогике и педиатрии во время Второй мировой войны развивалось, преодолевая политико-правовые барьеры, связанные с военными преступлениями фашистов. Трагически погиб великий польский педагог Януш Корчак (Эрш Хенрик Гольдшмит), казненный вместе со своими воспитанниками в концлагере Треблинка гитлеровскими преступниками. До последнего мига своей жизни Корчак оставался верен принципам принятой в 1924 г. Декларации прав ребенка, сделав ее нравственной практикой европейской культуры.
Жертвами гитлеровского наступления оказались многие дети, вывезенные с интернатами в Ленинградскую область, на колхозные площадки, в начале июля 1941 г. По данным диссертационного исследования, из 235 тыс. эвакуированных таким образом ленинградских детей до 15 лет около 105 тыс. пропало без вести или погибло [ Газиева , 2014, с. 149].
Этико-правовое осмысление военных преступлений в отношении детства и его влияние на современное международное гуманитарное право, 1945–1977 годы
Преступные действия гитлеровцев в отношении гражданского населения, оказавшегося на оккупированной территории, были осуждены Нюрнбергским трибуналом в 1945 г.
Поскольку «международное право … происходит из “всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы”», «для того чтобы признать ту или иную норму обычной нормой, необходимо удостовериться в том, что она отражена в практике государств и что международное сообщество убеждено в необходимости такой практики в соответствии с правом» [Защита гражданского населения, 2010].
Сравнение опыта спасения детей в ходе двух мировых войн началось в конце Великой Отечественной войны. Уже 25–27 сентября 1944 г. в Москве состоялось всесоюзное совещание по вопросам охраны материнства и детства. В докладе Наркома здравоохранения СССР Г. А. Митерева было сказано: «…Великая Отечественная война, несмотря на все ее тяготы и трудности… не оказала такого пагубного влияния на жизнь и здоровье детей, как первая мировая война, когда детская смертность увеличилась почти на 30%...» [ Митерев , 1944].
Однако трудно разделить это мнение наркома. Только официальные (45 570) и фактические (более 311 921) показатели гибели детей в блокадном Ленинграде 1941–1944 гг. различаются почти в 7 раз. Детская смертность ленинградских детей и подростков увеличили этот показатель в целом до 34% как минимум [ Газиева , 2014, с. 314; Бизев , 2001, с. 114].
Такая высокая детская смертность в период Второй мировой войны объясняется более жестокими условиями войны по сравнению с условиями Первой мировой войны. В серьезный фактор детской смертности в военных условиях превращалась неразвитость норм обычного международного права по охране детства и материнства.
В проблеме Ленинградской блокады наиболее четко выразились противоречия в развитии обычного международного права. Победа «физически и материально» более слабого, но духовно многократно более сильного ленинградского населения определила значимость социокультурных факторов в политике. Советское правительство оценило эту победу как противостояние культурноисторического социума внешнему врагу.
В 1945–1955 гг. противоречия в развитии обычного и гуманитарного права еще более обострились. В СССР они проявились в идеологическом конфликте в сфере гуманитарных наук, в частности, в замалчивании военного периода в развитии дошкольной педагогики, в критике направления, возглавляемого в психологии профессором С. Л. Рубинштейном, в педагогике – профессором Е. А. Аркиным. Показательна ирония в самокритичной статье авторов учебника «Дошкольное воспитание» в 1949 г., где они так пишут о недостатках своей книги: «Цели воспитания дошкольников изложены исходя из возрастных особенностей ребенка, а не из задач коммунистического воспитания» [ Леушина и др ., 1949].
Таким образом, этико-правовое осмысление всех аспектов гуманитарной катастрофы, произошедшей во время Второй мировой войны, оказалось актуальной задачей и заняло важнейшее место в формировании международного гуманитарного права в 1949–1977 гг. Результатом этого процесса явилось зафиксированное в Дополнительных протоколах (1977 г.) к Женевским конвенциям (1949 г.) право детей на защиту во время международных и немеждународных вооруженных конфликтов, в том числе требование не допускать разрушения средств жизнеобеспечения гражданского населения, а также запрещение использовать голод среди гражданского населения в качестве средства ведения войны [Протокол I, ч. 4, ст. 54; Протокол II, ч. 4, ст. 14]. Однако эффективность применения этих правовых норм остается недостаточной в условиях современных вооруженных конфликтов.
В заключение необходимо указать на широкое использование опыта Первой мировой войны в организации спасения детей в период Великой Отечественной войны, включая все его компоненты: правовой, нравственный, научно-методический, административно-хозяйственный. Но незрелость как международного гуманитарного, так и обычного права, трансформация общественного сознания привели к низкой эффективности многих мероприятий по спасению детей.
В то же время опыт спасения детей во время глобальных конфликтов XX в. свидетельствует о значимости социально-культурных взаимосвязей, в том числе научно-методического и практического опыта реабилитационной педагогики и педиатрии, разработавших систему сохранения у ре- бенка в условиях войны гуманистических ценностей как основного средства психического, нравственного и социального оздоровления. Следует заметить, что практика реабилитационной педагогики и педиатрии была направлена на рационализацию детских фантазий и вытеснение их конкретными актами доброты, сострадания, труда, коллективизма.
Эта практика способствовала выживанию и спасению социального здоровья детей в условиях Великой Отечественной войны. Однако проблема рационализации всех аспектов борьбы за спасение детей во время военных конфликтов остается актуальной в силу сохранения противоречий при реализации международного гуманитарного права в современных условиях.
Список литературы Проблемы и противоречия использования опыта Первой мировой войны по спасению детей в период Великой Отечественной войны
- IV Гаагская Конвенция 18 октября 1907 г. О законах и обычаях войны URL: Гааг-ская%о20Конвенция%о201907%о20года %20gaaga_shtrm.hta (дата обращения: 05.05.2014)
- Аркин Е. А. Особенности ребенка средней группы детского сада//Дошк. воспитание. 1943. № 8-9. С. 112
- Бизев С. Б. Смертность гражданского населения Ленинграда в годы блокады 1941-1944 гг. (на материалах Ленинградской Городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников): дис.... канд. ист. наук. СПб., 2001. 173 с
- Брусянин В. В. Война, женщины и дети. Пг.; М., 1917. 129 с
- Бугреева М. Н. О моральных проявлениях ленинградских детей в дни Великой Отечественной войны//Дошк. воспитание. 1944. № 10. С. 20-26
- Бюро МОТ в Москве. Начало URL: http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/(дата обращения: 05.05.2014)
- Газиева Л. Л. Борьба за спасение детей и подростков в блокированном Ленинграде. 1941-1944. СПб., 2014. 428 с
- Гражданский кодекс. Официальный текст с изменениями на 1 августа 1948 г. и с приложением постатей-но-систематизированных материалов. М., 1948
- Женевская декларация прав ребенка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%E5%ED%E5%E2%F1%EA%E0%FF_%E4%E5%EA%EB%E0%F0%E0% F6%E8%FF_%EF%F0%E0%E2_%F0%E5%E1%B8%ED%EA%E0 (дата обращения: 05.05.2014)
- Женевские Конвенции и Дополнительные протоколы URL: http://www.icrc.org/rus/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp (дата обращения: 05.05.2014)
- Защита гражданского населения. Обзор. URL: http://www.icrc.org/rus/what-we-do/protecting-civilians/overview-protection-civilian-population.htm (дата обращения: 05.05.2014)
- Келленбергер Я. Шествдесятилетие Женевских конвенций: извлекаем уроки из прошлого, чтобы с большей уверенностью встретить будущее. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/statement/geneva-conventions-statement-president-120809.htm (дата обращения: 05.05.2014)
- Левитов Н. Д. Психологические основы воспитания характера в дошкольном возрасте//Дошк. воспитание. 1943. № 10. С. 1-9
- Леушина А. М., Сорокина А. И., Усова А. П., Варшавская О. О книге «Дошкольная педагогика»//Дошк. воспитание. 1949. № 10. С. 45-47
- Международная организация труда. URL: http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm (дата обращения: 05.05.2014)
- Народный музей педагогического колледжа № 8 «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда» (НМПК)Ф. Щ «Е.Л. Щукиной». Оп. 2. Д. 10. Л. 184-186.
- Некролог. Ефим Аронович Аркин//Дошк. воспитание. 1948. № 4
- Общество и война: матер. докл. междунар. науч. семинара. Екатеринбург, 26 ноября 2009. Екатеринбург, 2010. 154 с
- Опыт мировой войны в истории России: сб. ст./редкол.: И.В. Нарский и др. Челябинск, 2007. 613 с
- Потемкина М. Н. Органы руководства эвакуационным процессом: российский опыт Первой и Второй мировых войн//Опыт мировой войны в истории России. Челябинск, 2007. С. 73-82
- Пянкевич В. Л. «Люди жили слухами»: Неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда. СПб., 2014. 479 с
- РСФСР. Уголовный кодекс. Официальный текст с изменениями на 1 июня 1942 г. и с приложением по-статейно-систематизированных материалов. М., 1942
- РСФСР. Уголовный кодекс. Официальный текст с изменениями на 1 сентября 1943 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. М., 1943
- РСФСР. Уголовный кодекс. С изменениями на 1 августа 1941 г. М., 1941
- Сальникова А. А. Конец сказки: Первая мировая и Гражданская войны в восприятии детей-современников//Опыт мировой войны в истории России. Челябинск, 2007
- Собрание постановлений и распоряжений Правительства РСФСР. М., 1943. № 4. С. 46-50
- Устюжанинова Е. Р. Помощь колхозной площадке//Дошк. воспитание. 1944. № 5-6. С. 4-7
- Устюжанинова Е. Р., инспектор Управления по дошкольному воспитанию НКП РСФСР. Повысим качество работы детских садов и площадок в колхозах//Дошк. воспитание. 1941. № 2. С. 52-53
- Что читать о воспитании у ребенка-дошкольника любви к Родине//Дошк. воспитание. 1944. № 1. С. 4247
- Щукина Е. Л. Очерки блокадных дней/редкол.: Л. Б. Береговая, Е. Н. Дмитриева и др. СПб., 2010. 247 с
- Яров С. В. Блокадная этика: Представления о морали в Ленинграде в 1941-1942 гг. СПб., 2011. 596 с
- Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М., 2013. 313 с
- DeMause L. The Emotional Life of Nations. URL: http://www.psychohistory.com/htm/eln05_psychogenic.html (дата обращения: 05.05.2014)
- Girling J. Emotion and Reason in Social Change. Insights from Fiction. New York, 2006. 234 p.
- Pediatrics and the emotional needs of the child: As discussed by pediatricians and psychiatrists at Hershey. Pennsyvania, 1947, March 6-8. New York, 1948
- Yekelchyk S. The Civic Duty to Hate//Stalinist Citizenship as Political Practice and Civic Emotion (Kiev, 194353)/Dept. of History, Dept. of Germanic and Russian Studies University of Victoria, Canada. URL: http://muse.jhu.edU/journals/kritika/v007/7.3iekelchyk.pdf (дата обращения: 05.05.2014)
- Митерев Г. А., Наркомздравоохранения СССР. Забота о матери и ребенке -важнейшая государственная задача (сокр. Доклад на Всесоюзном совещании по вопросу об охране материнства и детства 25-27. IX. 1944)//Сов. медицина. 1944. № 12
- Maurer R. Child care in the Soviet Union. New York, 1950