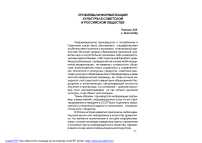Проблемы информатизации культуры в советском и российском обществе
Автор: Ратиев В.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Статья в выпуске: 1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14931136
IDR: 14931136
Текст статьи Проблемы информатизации культуры в советском и российском обществе
Информационное производство и потребление в Советском союзе было обусловлено специфическими особенностями политики и экономики, тоталитарной идеологией. Высокий уровень образования населения, развитие наук и искусств были пронизаны либо коммунистическими идеологемами, либо подпольной борьбой с ними. Индустриализация, проведенная на основе мобилизационной модернизации, не привела к «открытости» общества, возникновению новых социальных и управленческих технологий и культурных продуктов. Советская массовая культура и образование были сформированы в виде жесткой иерархической пирамиды, во главе которой находился слой советской гуманитарно-образованной бюрократии и интеллигенции, обслуживающей институты обучения и пропаганды, а в основании – широкие массовые слои, рассматриваемые не как субъект духовной культуры, а как объект для агитации.
Таким образом, производство информации (например, в виде знаний), информационных услуг по ее структурированию и передаче в СССР было подчинено сверхценной и утопической задаче по построению «коммунистического» общества.
В России история развития практически любой идеи, научной мысли или направления в искусстве драматична. Не является исключением и история информатики, науки, которая на западе определила темпы становления и основные черты информационного общества, сформировала основу новой коммуникационной индустрии.
Становление информатики (в СССР, а затем в России), как науки, не только изучающей общие свойства и структуру информации, но и закономерности и принципы ее создания, производства, накопления, преобразования, передачи, потребления имело большое значение для постепенного формирования основ информационного общества. Однако процессы развития этой науки связаны с драматическими коллизиями. По мнению Д. Поспелова, это ощущается даже в терминологии1 . Термин «информатика» применяется для обозначения совокупности научных направлений, тесно связанных с появлением компьютеров в России, относительно недавно. Он получил права гражданства только в начале 80-х гг., а до этого, согласно определению, данному в Большой Советской энциклопедии, информатика рассматривалась как «дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также закономерности ее создания, преобразования, передачи и использования в различных сферах человеческой деятельности»2. Подобное определение связывало информатику с библиотековедением, библиографией, методами поиска информации в массивах документов. Когда в 1952 г. был создан Институт научной информации АН СССР, позже преобразованный в ВИНИТИ – Всесоюзный институт научной и технической информации, то он должен был стать головным академическим учреждением в области информатики.
История информатики начиналась как история кибернетики и прикладной математики – именно в этих областях только и «разрешались» научные разработки. Известным фактом является то, что первая вычислительная машина появилась в мае 1942 г. в США. Но гораздо менее известно, что в СССР работы по созданию отече- ственной вычислительной техники, использующей двоичную систему счисления, начались еще в 30-е гг. и были прерваны Великой Отечественной войной1. Первая вычислительная машина – МЭСМ – заработала в 1951 г. в Киеве, созданная коллективом, возглавляемым С.А. Лебедевым. В 1952 г. стали действовать машины М-1 и М-2, в 1953 г. появился первый экземпляр ЭВМ «Стрела», а с 1954 г. началось производство машин «Урал»2. И фундаментальные исследования, и инженерные разработки были глубоко засекречены. Первая научная монография по теории ЭВМ и программированию, вышедшая в 1952 г. (Л.А. Люстерник, А.А. Абрамов, В.И. Шестаков, М.Р. Шура-Бура «Решение математических задач на автоматических цифровых машинах. Программирование для быстродействующих электронных счетных машин»), была издана в Москве, в издательстве АН СССР, имела гриф «Секретно» и, следовательно, не была достоянием широкой общественности.
Развитие кибернетики происходило в области узко математического направления, главным образом, по идеологическим причинам. Широкий, фундаментальный подход к кибернетике как науке об управлении в различных системах, связанный, прежде всего, со знаменитой работой Н. Винера «Кибернетика или управление и связь в животном и машине», вышедшей в США в 1948 г., противоречил основным идеологическим догмам и самой сущности «закрытого» общества. В соответствии с видением кибернетики Н. Винером, она должна была явиться основой исследования и разработки новых процессов управления не только в сложных технических системах, но и в социальных, управленческих. Эти «крамольные» идеи Винера противоречили марксистским догмам и надолго определили строжайшую секретность его трудов. В середине 50-х гг. кибернетика была обличена как «буржуазная лженаука», что серьезно затормозило развитие научной мысли и во многом определило массовое культурное восприятие информационного производства.
В обществе культивировались понятия, акцентирующие инженерно-техническую сторону создания вычислительных машин. Они уподоблялись большим арифмометрам, и принципы их работы ни к коей мере не должны были переноситься в социальную сферу. В итоге, гуманитарная наука (особенно экономическая теория, работы по управлению народным хозяйством) и гуманитарное образование все более отставали от последних зарубежных разработок, советская управленческая система не могла соревноваться по уровню эффективности с западной.
Только в результате серьезной борьбы и больших усилий советские ученые отвоевали право на работу в области кибернетики. Свидетельством окончательного официального ее признания стала статья «Кибернетика» в 51-м томе второго издания Большой Советской Энциклопедии, написанная А.Н. Колмогоровым. В ней нет и намека на ту травлю, которой подверглась эта наука всего несколько лет назад. Начало статьи необычно для советских изданий того времени, тем более для БСЭ, которая должна была стоять на страже советской науки, всячески подчеркивать ее мировой авторитет и значимость: «Кибернетика – научное направление, задачи которого были сформулированы в работах американского ученого Н. Винера, опубликованных в 1948 г.; по Винеру и его последователям, кибернетика есть наука о «связи», «управлении» и «контроле» в машинах и живых организмах». Далее в статье расшифровывается содержание этих понятий и устанавливается связь кибернетики с теорией информации, опирающейся на идеи К. Шеннона. Отголоском недавней борьбы за кибернетику выглядит абзац, по своему стилю выпадающий из общего стандартного для 80
энциклопедий «академического» тона изложения: «Много дискутировавшийся вопрос о праве кибернетики на существование в качестве самостоятельной научной дисциплины сводится к вопросу о том, насколько существенны общие черты всех процессов связи, управления и контроля, т. е. могут ли общие свойства этих процессов в машинах, живых организмах и их объединениях быть предметом достаточно содержательной единой теории. На этот вопрос следует ответить с полной определенностью утвердительно, хотя в направлении систематического построения кибернетики сделаны лишь первые шаги»1.
В конце 60-х гг. начала складываться наука, получившая название «социальная информатика». В ее основе лежало направление, разрабатывающее широкий комплекс социальных, экономических, методологических проблем с помощью инструментария кибернетики, математики и системного анализа. Большое значение для развития данного научного направления имела научная статья В.Г. Афанасьева и А.Д. Урсула «Социальная информация (Некоторые методологические аспекты)» в журнале «Вопросы философии» (1974 г., № 10), коллективные монографии: «Основы информатики» (Москва, 1968 г.), «Научные коммуникации и информатика» (Москва, 1976 г.), «Основные проблемы информатики и библиотечно-библиографическая работа» (Ленинград, 1976 г.), «Инфосфера: информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе» (1996 г.).
Социальная информатика вначале складывалась как научная дисциплина в сфере библиотечного дела. Кафедра социальной информатики впервые появилась в Ленинградском государственном институте культуры им. Н.К. Крупской. Далее социальная информатика акцентировала системный подход к пониманию свойств и функций информации в обществе, занималась разработкой проблем внедрения социальных технологий, создания автоматизированных систем сбора и обработки информации для управления экономическими организациями и социальными процессами в целом. В настоящее время задачи социальной информатики сводятся к двум большим частям:
проведение анализа влияния информатики на социальные процессы и системы, на механизмы структурирования современного общества;
анализ влияния социальной среды на создание программных и аппаратных средств, доступных и удобных для широкого круга пользователей1.
Развитие информационных наук и технологий в СССР и в России характеризуются, по мнению А. Поспелова, двумя тенденциями, которые во многом обусловили пути формирования основных элементов культуры информационного общества. Первая тенденция – это широкое развертывание работ в сфере теории вычислительных машин и программирования; вторая – отставание от ведущих стран в области создания новых поколений ЭВМ, отсутствие ориентации на массовый спрос. К концу 60-х гг. технологический разрыв в области вычислительных машин уже достигал 6-7 лет2.
В среде разработчиков ЭВМ не поднимался вопрос о программной совместимости машин, так как не было ориентации на потребительский спрос, тем более массовый. Все это определило полный переход в годы реформ и массового появления в российском обществе персональных компьютеров на стандарты IBM. После этого, отечественные достижения в области языков программирова ния, операционных систем « практически сходят на нет»3.
М. Кастельс и Э. Кисилева сегодня считают: «Для крупного промышленного производителя, каким являлась советская Россия, наиболее прямой дорогой к информационной эпохе было бы улучшение ее информационнотехнологических отраслей и развитие отечественных производителей полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники. Однако российская электронная промышленность сильно отставала от технологического уровня электронной промышленности США, Европы и Восточной Азии в 1980-х гг., и в первой половине 1990-х гг. она потерпела крах»1. Они видят причины запаздывания в развитии информационных технологий глубоко укорененными в структуре советской системы. Это – полное доминирование в промышленности военных потребностей; связанная с этим изолированность советской промышленности от технологических ресурсов и от обмена с остальным миром; ограничения на распространение технологических знаний и информации в гражданской промышленности и в обществе. В результате, когда в 1990-е гг. российские рынки вооружения начали сокращаться, технологическая отсталость помешала российским микроэлектронным и компьютерным фирмам конкурировать с иностранными компаниями, как за границей, так и на российском рынке. Общая стоимость производства чипов в России снизилась к 1995 г. с 1,5 млрд. долларов в 1989 г. до 385 млн. долларов. Наиболее развитые сегменты промышленности практически опустошены: из 140 производителей микроэлектроники, существовавших в 1990 г., 130 прекратили работу к 1995 г. Для оставшихся 10 фирм производственные издержки возросли на 4000%. Эти компании, а также несколько сохранившихся производителей телекоммуникационного оборудования с трудом выживали в середине 1990-х гг. в качестве субподрядчиков низкотехно- логичных азиатских компаний, производящих игрушки и цифровые часы1.
Особенности развития отечественной информатики и кибернетики являлись одним из существенных факторов, влияющих на становление информационной культуры общества, в частности, культуры информационного производства и потребления. В информационном обществе именно социальная потребность в постоянном и нарастающем потреблении информации определяет его развитие.
Системы по производству информации вычленяются из данного цикла только условно. К ним можно отнести системы массовых коммуникаций, средств массовой информации, образования, в том числе, дистанционного образования, а также все системы, связанные с социальным сервисом и технологиями. К культуре информационного производства можно отнести духовные, нравственные, социокультурные основания развития таких систем.
Культура информационного потребления – это духовные, ментальные, социокультурные основы интерпретации информации, ее анализа, осмысления, принятия или отторжения. В основе данного процесса лежат накопленные пласты знания, исторический опыт, исторические программы социального воспроизводства, направленного на сохранение, воссоздание и развитие сложившихся условий жизни. Именно генетически сложившиеся основы социокультурного воспроизводства определяют основы культуры информационного потребления, а стало быть, задают параметры информационного производства.
Список литературы Проблемы информатизации культуры в советском и российском обществе
- Д.А. Поспелов. История искусственного интеллекта до середины 80-х гг.//Новости искусственного интеллекта. 1994. № 4. С. 74-95.
- А.И. Михайлов, А.И. Черный, Р.С. Гиляревский. Информатика//Большая Советская энциклопедия, 3-е изд. Т. 10. М.: Советская энциклопедия, 1972. С. 348-350.
- Апокин И.А. Развитие вычислительной техники и систем на ее основе//Новости искусственного интеллекта. 1994. № 1.
- Апокин И.А. Указ. соч.; Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Киев, 1995.
- Колмогоров А.Н. Кибернетика//Большая советская энциклопедия, 2-е изд.. Т. 51. М., 1958. С. 149
- Поспелов Д.А. Становление информатики в России. См.: http://pco.iis.nsk.su/simics/informatics/fet/pospelov.htm>.
- Социальная информатика: основания методы, перспективы. М., 2003.
- С.Л. Соболев, А.И. Китов, А.А. Ляпунов. Основные черты кибернетики//Вопросы философии. 1955. № 4. С. 136148
- Э. Кольман. Что такое кибернетика?//Вопросы философии. 1955. № 4. С. 148-159.
- Кастельс М., Кисилева Э. Россия в информационную эпоху//Мир России. 2001. № 1. С. 13.