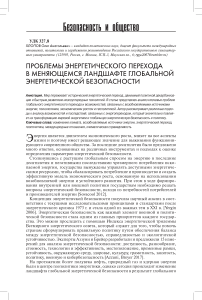Проблемы энергетического перехода в меняющемся ландшафте глобальной энергетической безопасности
Автор: Хлопов Олег Анатольевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Безопасность и общество
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
Мир переживает исторический энергетический переход, движимый политикой декарбонизации и быстрым развитием низкоуглеродных технологий. В статье представлен анализ ключевых проблем глобального энергетического перехода и возможностей, связанных с возобновляемыми источниками энергии, технологиями, экономическим ростом и геополитикой. Автор рассматривает различные подходы к анализу возможностей и последствий, связанных с энергопереходом, который значительно повлияет на трансформацию мировой энергетики и глобальную энергетическую безопасность и политику.
Изменение климата, возобновляемые источники энергии, энергетический переход, геополитика, международные отношения, климатическая справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/170191675
IDR: 170191675 | УДК: 8 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8534
Текст научной статьи Проблемы энергетического перехода в меняющемся ландшафте глобальной энергетической безопасности
Э нергия является двигателем экономического роста, влияет на все аспекты жизни и поэтому имеет решающее значение для выживания функционирующего современного общества. За последние десятилетия было предложено много ответов, основанных на различных инструментах и подходах к оценке определения параметров энергетической безопасности.
Столкнувшись с растущим глобальным спросом на энергию в последние десятилетия и негативными последствиями чрезмерного потребления ископаемой энергии, государства вынуждены управлять доступными энергетическими ресурсами, чтобы сбалансировать потребление и производство и создать эффективную модель экономического роста, основанную на использовании возобновляемой энергии и устойчивого развития. При этом в ходе формирования внутренней или внешней политики государствам необходимо решать вопросы энергетической безопасности, исходя из потребностей потребителей и производителей энергии [Sovacool 2012].
Концепция энергетической безопасности получила научный анализ в соответствии с текущими исследовательскими принципами и стандартами после энергетического кризиса 1973 г. и стала одной из важных тем в XXI в. [Yergin 2006]. Энергетическая безопасность как важный элемент военной и политической безопасности стала одним из главных приоритетов каждого государства. Это можно проследить с помощью Индекса энергетической трилеммы Всемирного энергетического совета, который служит для того, чтобы помочь странам сформулировать правильную политику путем обеспечения баланса между энергетической безопасностью, справедливостью и экологической устойчивостью. Эксперты Аззуни и Брейер разработали и предложили 15 измерений для анализа энергетической безопасности: доступность, разнообразие, стоимость, технологии и эффективность, местоположение, временн ы е рамки, устойчивость, окружающую среду, здоровье, культуру, грамотность, занятость, политику, военную и кибербезопасность [Azzuni, Breyer 2017].
На протяжении более полувека нефть, природный газ и ядерная энергия были в центре геополитики энергетики, однако сегодня происходит изменение ландшафта глобальной энергетической безопасности в результате глобального энергетического перехода – процесса, движимого политикой декарбонизации и быстрого развития технологий использования возобновляемых источников энергии и электромобилей.
Несмотря на утверждения, что в мировых недрах еще достаточно угля, нефти и природного газа на столетия, эра ископаемого топлива заканчивается. Но она завершается не исчерпанием ископаемых природных ресурсов, а по совершенно другим причинам.
Изменение климата и возобновляемые источники энергии. Ископаемое топливо оказывет негативный эффект. Когда оно сгорает, в атмосферу выделяется углекислый газ СО2, обладающий квантово-физическим свойством поглощения электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне. Атмосферный CO2 нагревает Землю, улавливая инфракрасное излучение, которое в противном случае излучалось бы с Земли в космическое пространство. CO2, говоря современным языком, является парниковым газом, и в какой-то мере это хорошо для спасения жизни. Однако при слишком большом количестве СО2 в атмосфере температура Земли поднимется до опасного уровня.
По всем этим причинам в декабре 2015 г. было принято Парижское соглашение по климату, чтобы удерживать потепление на уровне «значительно ниже 2°C и стремиться ограничить потепление до 1,5°C или ниже». Каждая страна должна выдвинуть «определяемый на национальном уровне вклад» в преобразование энергии и другие экономические изменения, чтобы сумма национальных усилий была достаточной для достижения глобальной цели. Более того, чтобы иметь вероятный (66%) результат 1,5°C или ниже, мир в целом должен достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г. Короче говоря, мир должен декарбонизироваться к 2050 г. и перейти от обезлесения к лесовозобновлению.
Ученые ясно дали понять, что декарбонизация к 2050 г. возможна путем перевода выработки электроэнергии с угля, нефти и газа на источники энергии с нулевым выбросом углерода (ветер, солнечная энергия, геотермальная энергия, гидроэнергетика, океан, биомасса, ядерное или ископаемое топливо с улавливанием и хранением углерода). Объем инвестиций в «зеленую энергетику» к 2030 г. должен составить около 4 трлн долл. США, но даже для развитых стран заявленные объемы вложений сегодня кажутся маловероятными [Кулапин 2021].
Но здесь на сцену выходит геополитика, которая может оказаться самым важным фактором успеха или неудачи мировых усилий по декарбонизации и энергетической безопасности. За последние годы все большее число ученых обращают внимание на то, как переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) изменит международные отношения [Van de Graaf, Sovacool 2020; Yergin 2020].
В статье представлен анализ трех ключевых подходов к вопросам, которые связаны с изменяющимся мировым энергетическим порядком. Представители первого подхода полагают, что переход к ВИЭ будет относительно быстрым и существенно изменит геополитические и экономические отношения между государствами. Согласно второй точке зрения, переход к ВИЭ неизбежен, но он будет протекать не так быстро, а нефть и газ останутся еще на долгое время основными энергетическими ресурсами. Наконец, ряд экспертов выступают за расширение масштабов исследований энергетической политики XXI в. в области перехода к глобальной энергетике, полагая, что нужен другой анализ проблем, который выходит за рамки существующих подходов. Они акцентируют внимание на необходимости применения более радикальных мер, включая борьбу за климатическую справедливость и новые способы потребления.
Зарождающаяся геополитика возобновляемых источников энергии. Научное исследование Манфреда Хафнера и Симоне Тальяпьетры «Геополитика пере- хода к глобальной энергетике» представляет собой анализ зарождающейся геополитики перехода к возобновляемой энергии, который повлияет или изменит межгосударственную конкуренцию и причины возникновения новых конфликтов. В частности, они выделяют три ключевые темы: 1) конкуренцию за новые технологии возобновляемой энергии и цепочки создания стоимости; 2) торговые отношения, которые могут возникнуть в результате этого перехода, и их геополитические последствия для мировой и национальных экономик; 3) будущее современных нефтегазовых государств. Очевидно, что технологии возобновляемой энергетики, включая солнечные панели, ветряные турбины, аккумуляторные батареи и электромобили, быстро становятся ареной, на которой государства борются за контроль над производственно-сбытовыми цепочками и сырьем. Авторы исследования заявляют, что Китай может стать «мировой сверхдержавой в области возобновляемых источников энергии в XXI веке» [Hafner, Tagliapietra: 2020: xv].
Согласно оценке других специалистов в области энергетики, Китай уже занял или стремится занять доминирующие позиции во всей цепочке создания стоимости основных технологий, участвующих в переходе к низкоуглеродной энергии, и указывают на почти полную монополию Китая на редкоземельные металлы, которые имеют решающее значение для перехода на ВИЭ. Так, в 2017 г. на КНР приходилось 80% производства редкоземельных элементов и 36% мировых запасов, а также ею были предприняты усилия для получения приоритетного доступа к запасам кобальта и лития в мире, которые имеют решающее значение для аккумуляторных систем хранения [Meidan 2020].
Вторая ключевая тема – это то, как переход к возобновляемым источникам энергии изменит глобальную торговлю энергоресурсами и создаст новые отношения взаимозависимости и возможности для сотрудничества и конфликтов. Исследователи утверждают, что «геополитическая сложность более тесных энергетических соединений между странами» усилит глобальную взаимозависимость и уязвимость, тем самым «снизив риски конфликтов». Аналогичные дебаты возникают относительно последствий цепочек поставок полезных ископаемых: растущая зависимость большинства государств от Китая в отношении редкоземельных элементов (80% мирового производства), Демократической Республики Конго в отношении кобальта (60% мирового производства) и андской соли, лития (40% мировых запасов) может повысить возможность сбоев в цепочке поставок (преднамеренных или случайных). Однако некоторые полагают, что эти минералы более распространены географически, и, следовательно, их труднее контролировать одному или нескольким государствам, что может способствовать региональной автономии и ослабить конфликтное давление [Hafner, Tagliapietra 2020].
Третья ключевая тема касается будущего современных нефтегазовых государств: смогут ли они быстро диверсифицировать свою экономику, отказавшись от ископаемого топлива, чтобы поддержать экономическую конкурентоспособность, налоговые поступления и внутреннюю стабильность, или же они пострадают от безнадежных активов и экономического спада? Некоторые авторы утверждают, что Саудовская Аравия и Россия, в частности, могут больше всего потерять от перехода [Henderson, Mitrova 2020].
Такая точка зрения оспаривается оппонентами, утверждающими, что переход на возобновляемые источники энергии может фактически повысить краткосрочную и среднесрочную ренту нефтегазовых государств за счет (искусственного) увеличения дефицита ископаемого топлива [Mills 2020]. Формы
«изменений», на которых сосредоточиваются сторонники геополитического подхода к возобновляемым источникам энергии, ограничиваются сдвигами в балансе сил, торговых отношениях, геополитическом выравнивании и технологической замене. Внимание акцентируется на необходимости как можно быстрее осуществить переход на использование ВИЭ ввиду стремительного изменения климата.
Сохраняющееся значение нефти и газа в условиях переходного периода в энергетике. В отличие от Хафнера и Тальяпьетры, которые делают акцент на вероятность геополитических потрясений, возникающих в результате перехода к возобновляемой энергии, ряд исследователей, признавая неизбежность перехода, не соглашаются с темпами изменений. Они указывают, что для создания устойчивого мирового порядка на основе ВИЭ требуются более глубокие и длительные преобразования и что переход будет медленным, а экономика многих стран еще долгое время будет зависеть от нефти и газа.
В работе «Новая карта: энергия, климат и столкновение наций» авторитетный американский исследователь в области энергетики, международной политики и экономики Даниэл Ергин считает, что «больше внимания уделяется долгосрочной непрерывности экономики, связанной с ископаемым топливом». Ергин также озабочен последствиями изменения климата и перехода на возобновляемые источники энергии, хотя они, в рамках его рассуждений, остаются второстепенными, а более важными факторами, определяющими глобальную энергетическую стратегию, являются последствия американской «сланцевой революции», развитие Китая и роль энергетики в изменении геополитики Ближнего Востока, отношений между ЕС и Россией и Россией и Китаем [Yergin 2020]. Ергин утверждает, что сланцевая нефть и газ оказались крупнейшими энергетическими инновациями XXI в., а США, уменьшив свою зависимость от импорта нефти, получили новую гибкость во внешней политике, наложили финансовые и энергетические санкции против Ирана и России, не опасаясь спровоцировать скачки цен на нефть.
Кроме того, вместо напряженности между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, доминирующими в нефтяной геополитике, рост добычи американского сланца наряду с возрождающейся российской добычей сформировал новый нефтяной порядок, основанный на «большой тройке»: США, Россия и Саудовская Аравия, что отразилось в новой динамике переговоров о ценах на нефть – от обвала цен на сланцевую нефть в 2014 г. и обвала, вызванного пандемией в 2020 г. до их стабилизации и роста [Yergin 2020: 65-66].
Обращаясь к переходу на ВИЭ, Ергин соглашается с тем, что рост возобновляемых источников энергии необратим, но он будет медленным, и еще долгое время мир будет зависеть от нефти и газа. Ископаемое топливо к 2050 г., вероятно, будет составлять не менее 50% растущего потребления энергии [Yergin 2020: 428-429].
Такая позиция близка большинству российских экспертов, которые считают, что, во-первых, в этих условиях нефтегазовые компании выбирают различные стратегии: от добычи по максимуму, пока есть спрос на нефть и газ, диверсификации своей деятельности и значительного увеличения доли возобновляемой энергетики, до стремления полностью избавиться от углеводородных активов. Во-вторых, этот выбор должен учитывать, что инвестиции в углеводородные активы являются долгосрочными и медленно окупаются [Телегина, Студеникина, Чапайкин 2021].
Вместе с тем мы можем согласиться c теми специалистами, которые с осторожностью относятся к техническим и политическим проблемам, с которыми сталкиваются усилия по ускорению перехода к ВИЭ.
Расширение масштабов исследований энергетической политики XXI в. в обла- сти перехода к глобальной энергетике. Другие эксперты в анализе последствий перехода к возобновляемым ресурсам выходят за рамки существующих подходов к изменяющемуся ландшафту глобальной энергетической политики, требуя более радикальных ответных мер, которые выдвигают на первый план разнообразную локальную и глобальную борьбу за климатическую справедливость и будущие модели экономического роста.
Б. Совакул и Т. Ван де Граф при анализе динамики глобальной энергети- ческой политики выделяют четыре ключевых аспекта, включая неомеркан- тилизм (или реализм), рыночный либерализм, энвайронментализм и социальную справедливость (или марксизм). Такой подход, по их мнению, позволяет четко обозначить основных участников, которые по-разному оценивают и определяют приоритеты рисков и видят разное будущее в энергетических преобразованиях – от классических моделей геополитической конкуренции, продолжающейся на протяжении всей эры ВИЭ (неомеркантилистский взгляд), до более согласованных глобальных рынков и институтов управления потоками энергии (либеральная точка зрения) и других вариантов, включающих ускоренные сроки декарбонизации и «справедливый переход» (взгляды защитников окружающей среды и социальной справедливости) [Van de Graaf, Sovacool 2020: 228]. Рассматривая тезис об «энергетической справедливости», они обращают внимание на пагубное воздействие цепочек поставок возобновляемой энергии на сообщества, когда проблемы социальной справедливости остаются в стороне, что можно увидеть, например, в ужасающих условиях добычи кобальта в Демократической Республике Конго; накоплении токсичных отходов от солнечных панелей, деталей электромобилей и интеллектуальных счетчиков в Гане; процессах огораживания земель и отчуждения маргинализированных сообществ для строительства солнечных электростанций в Гуджарате, Индия, а также выдвигают на первый план инициативы по «энергетической демократии», направленные на создание более децентрализованной инфраструктуры производства и распределения возобновляемой энергии [Van de Graaf, Sovacool 2020: 119-142].
Таким образом, Совакул и Ван де Граф считают, что нужна более широкая программа исследований по глобальному энергетическому переходу, которая четко осознает неустойчивость глобальных гегемонистских режимов политической экономии и образа жизни, в то же время сосредоточивая внимание на борьбе за климатическую и энергетическую справедливость.
Другой эксперт Майкл Альберт, исследователь международных отношений Лондонского университета, обращает внимание на необходимость разработать теоретическую основу, опирающуюся на теорию сложных систем и критическую политическую экономию для отображения сходящихся кризисов XXI в. В своей работе он анализирует «три возможных оси глобальной трансформации в ответ на необходимость декарбонизации»: 1) потенциал перехода к политической экономике после экономического роста; 2) потенциал радикального сокращения военно-промышленных комплексов с высокими выбросами и 3) потенциал деколонизации современных идеологий «прогресса» [Albert 2021]. Появляется все больше свидетельств того, что непрерывный экспоненциальный рост несовместим со стабилизацией климата, поскольку непрерывный рост энергопотребления делает чрезвычайно трудным (если не невозможным) достаточно быструю декарбонизацию для достижения целей Парижского соглашения [Hickel, Kallis 2020]. Это требует, по крайней мере, учета потенциала политико-экономических преобразований «после роста», при которых рост ВВП перестанет быть «основным государственным импе- ративом», экономика будет реорганизована для достижения альтернативных ценностей (например, благосостояние, общественное здоровье, устойчивость, и т.д.), а сила транснационального капитала будет подчинена определенным приоритетам развития, определяемым государством или международным сообществом [Albert 2020; Jackson 2018].
При этом он указывает на конкретные движения по всему миру – от инициатив политиков организаций «За пределами ВВП» и «Альянс экономики благосостояния», чьи программы направлены на внесение в показатели ВВП альтернативных экономических индикаторов1, инициатив против хищнической добычи природных ресурсов, децентрализованной энергетической демократии и государственных коммунальных предприятий до борьбы за «новый зеленый курс» в США и Европе.
Вторая возможная ось глобальной трансформации связана с потенциалом «демилитаризации» в полностью декарбонизированном мире. Ставится вопрос, как декарбонизация может изменить природу войны и военной мощи, может ли и каким образом возникнуть траектория демилитаризации, которая не только устранит «углеродный след» структур вооруженных сил, но и более радикально ограничит их размер, чтобы сосредоточиться на решении проблем изменения климата и реакции на стихийные бедствия [Belcher et al. 2020].
И наконец, в-третьих, исследователи международных отношений должны учитывать возможность идеологических трансформаций, выходящих за рамки дискуссий о «прогрессе», и то, как доминирующие идеологии в современном мире (либерализм, социализм и национализм) разделяют основополагающую веру в линейный прогресс посредством бесконечного экономического роста, технологических инноваций и усиления «контроля над природой» [Buzan, Lawson 2015: 99-100].
На основании сказанного выше можно сделать следующие выводы. Быстрый рост ВИЭ открывает возможности для иного геополитического мышления, уделяя больше внимания экономическим аспектам и производству энергии внутри или за пределами национальных экономик. Очевидно, что переход мировой и национальных экономик на ВИЭ будет включать в себя крайне сложный период международных отношений, который может, в конечном итоге, разрушить надежды мира на климатическую безопасность из-за значительного повышения уровня моря, если не будет преобладать глобальное сотрудничество.
Представленный анализ различных точек зрения и позиций дает нам лишь краткий набросок возможных путей для дальнейших научных исследований в области развития мировой энергетики. Он может служить отправной точкой для понимания вероятных сдвигов и сбоев, которые произойдут в ближайшие десятилетия по мере продвижения мира к широкому применению возобновляемых источников энергии.
Необходимы новые исследования по проблемам, связанным с глобальным энергетическим переходом, которые учитывают возможность далеко идущих преобразований в политико-экономических, военных и идеологических основах мировой политики и подчеркивают роль различных движений за климатическую справедливость. Чтобы добиться успеха в глобальном масштабе, необходимо обозначить сферы сотрудничества. Для достижения результатов потребуются новые формы промышленной политики, транснациональной инфраструктуры и разработок и совместной политики для адаптации к теку- щим изменениям климата.
Список литературы Проблемы энергетического перехода в меняющемся ландшафте глобальной энергетической безопасности
- Кулапин А. 2021. Энергетический переход: Россия в глобальной повестке. - Энергетическая политика. 12.07.2021. Доступ: https://energypolicy.ru/ energeticheskij-perehod-rossiya-v-globalnoj-povestke/energoperehod/2021/11/12/ (проверено 29.09.2021).
- Телегина Е., Студеникина Л., Чапайкин Д. 2021. Новые вызовы энергорынка - мир и Россия, возможности роста. - Энергетическая политика. 11.08.2021. Доступ: https://energypolicy.ru/novye-vyzovy-energorynka-mir-i-rossiya-vozmozh-nosti-rosta/energoperehod/2021/12/11/ (проверено 05.09.2021).
- Albert M.J. 2020. Capitalism and Earth System Governance: An Ecological Marxist Approach. - Global Environmental Politics. Vol. 20. Is. 2. P. 37-56.
- Ablert M.J. 2021. The Climate Crisis, Renewable Energy, and the Changing Landscape of Global Energy Politics. - Alternatives: Global, Local, Political. Vol. 46. Is. 3. P. 89-98.
- Azzuni A., Breyer C. 2017. Definitions and Dimensions of Energy Security: A literature review. - Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. Vol. 7. Is. 1.
- Belcher O., Bigger P., Neimark B., Kennelly C. 2020. Hidden Carbon Costs of the "Everywhere War": Logistics, Geopolitical Ecology, and the Carbon Boot-Print of the US Military. - Transactions of the Institute of British Geographers. Vol. 45. Is. 1. P. 65-80.
- Buzan B., Lawson G. 2015. The Global Transformation: History, Modernity, and the Making of International Relations. Cambridge University Press. 421 р.
- Hafner M., Tagliapietra S. 2020. The Geopolitics of the Global Energy Transition. Springer. 381 р.
- Henderson J., Mitrova T. 2020. Implications of the Global Energy Transition on Russia. - The Geopolitics of the Global Energy Transition (ed. by M. Hafner, S. Tagliapietra). Springer. P. 93-114.
- Hickel J., Kallis G. 2020. Is Green Growth Possible? - New Political Economy. Vol. 25. Is. 4). P. 469-486.
- Jackson T. 2018. Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. 2nd ed. Routledge. 310 р.
- Meidan M. 2020. China: Climate Leader and Villain. - The Geopolitics of the Global Energy Transition (ed. by M. Hafner, S. Tagliapietra). Springer. P. 5-91.
- Mills R. 2020. A Fine Balance: The Geopolitics of the Global Energy Transition in MENA. - The Geopolitics of the Global Energy Transition (ed. by M. Hafner, S. Tagliapietra). Springer. P. 115-150.
- Sovacool B.K. 2012. Energy Security: Challenges and Needs. - Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. Vol. 1. Is. 1. P. 51-59.
- Van de Graaf T., Sovacool B. 2020. Global Energy Politics. Polity Press. 240 р.
- Yergin D. 2006. Ensuring Energy Security. - Foreign Affairs. Vol. 85. No. 2. P. 69-82.
- Yergin D. 2020. The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Natios. Allen Lane. 512 р.