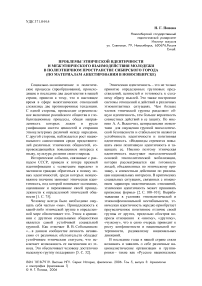Проблемы этнической идентичности и межэтнического взаимодействия молодежи в полиэтничном пространстве сибирского города (по материалам анкетирования в Новосибирске)
Автор: Попова Н.Г.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Современные этносоциальные процессы в сибири
Статья в выпуске: 3-1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736775
IDR: 14736775 | УДК: 371.044.4
Текст статьи Проблемы этнической идентичности и межэтнического взаимодействия молодежи в полиэтничном пространстве сибирского города (по материалам анкетирования в Новосибирске)
Социально-экономические и политические процессы (преобразования), происходящие в последние два десятилетия в нашей стране, привели к тому, что в настоящее время в сфере межэтнических отношений сложились две противоречивые тенденции. С одной стороны, происходит стремительное включение российского общества в глобализационные процессы, общая направленность которых лежит в русле унификации систем ценностей и стирания этнокультурных различий между народами. С другой стороны, наблюдается рост национального самосознания среди представителей различных этнических общностей, сопровождающийся повышением интереса к языку, культуре, религии своего народа.
Исторические события, связанные с распадом СССР, привели к потере прежней идентификации с «советским народом» и заставили граждан обратиться к поиску новых идентичностей, среди которых немаловажное значение занимает этническая идентичность, под которой понимают осознание, оценивание и переживание своей принадлежности к определенной этнической общности [1. С. 75].
Человеку всегда было необходимо ощущать себя частью «мы». Принадлежность к какой-либо этнической группе в определенной мере обеспечивает это. Этнос в сравнении с другими социальными общностями является самой устойчивой социальной группой. Как отмечает В. В. Собольников: «…в данном сообществе личность независимо от различных обстоятельств обладает устойчивым этническим статусом, что исключает возможность ее вытеснения из этноса. Это обеспечивает человеку достаточно надежную группу поддержки» [5. С. 32].
Этническая идентичность – это не только принятие определенных групповых представлений, ценностей и готовность к сходному образу мыслей. Это также построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях. Чем больше членов этнической группы разделяют общую идентичность, тем больше вероятность совместных действий в ее защиту. По мнению А. А. Выскочил, центральными моментами для ощущения группой психологической безопасности и стабильности являются устойчивость идентичности и позитивная идентичность. «Индивиды стремятся повышать свою позитивную идентичность и защищать ее. Именно поэтому этническая идентичность выступает психологической основой этнополитической мобилизации, которая рассматривается как готовность людей, объединенных по этническому признаку, к совместным действиям по реализации национальных интересов. В критических социальных ситуациях, связанных с изменением характера межэтнических отношений, этническая идентичность может принимать кризисные формы» [2. С. 100–101]. Вырабатываемая в условиях этнополитической и этноконфессиональной нестабильности, этническая идентичность нередко приобретает преувеличенное позитивное отличие своей группы от других, предельно обостряя вопросы отношения к «иному», «другому», «чужому», что в свою очередь приводит к росту конфликтности и национальной нетерпимости, радикализму национальных движений.
В последние годы в нашей стране стали возникать и заявлять о себе различные националистические организации и группировки – такие как «Русское национальное
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3: Археология и этнография (приложение 1) © Н. Г. Попова, 2006
единство», «скинхеды» и др. Для популяризации своих идей эти объединения создают интернет–сайты, выпускают печатные и электронные издания, организовывают различные мероприятия и акции, в том числе несанкционированные. При этом хотелось бы отметить, что по большей части деятельность подобных организаций ориентирована на современную молодежь, т. е. именно молодое поколение, прежде всего, является их целевой аудиторией (группой) и своеобразным резервным потенциалом. Это подтверждают публикации и сообщения в прессе и средствах массовой информации, повествующие о различных конфликтах и столкновениях, произошедших на почве межэтнических разногласий и непонимания, о пресечении в различных городах сотрудниками милиции деятельности группировок «скинхедов», члены которых в основном юноши и подростки, совершающие нападения как на представителей бывших союзных республик, так и на выходцев из стран дальнего зарубежья 1. ∗ .
В сложившейся ситуации особую значимость, на наш взгляд, приобретают изучение закономерностей функционирования этнической идентичности и выбор технологий межэтнического взаимодействия молодого поколения нашей страны.
Молодость – это период, в который наиболее интенсивно протекает процесс социализации: время формирования жизненных позиций, поисков своего места в обществе, обретения независимости и свободы выбора. Молодежь – самая активная часть населения, от которой во многом зависит будущее государства и развитие региона в частности. Вместе с тем молодежь как объект исследования представляется крайне неоднородной по составу, полу, возрасту, социальному составу (в одних классификациях выделяется 7 групп молодежи, в других – 11, среди которых: учащиеся школ, лицеев, ПТУ, студенты вузов, военнослужащие и т. д.).
Проблематичным в использовании понятия «молодежь» представляется и возрастной аспект. До сих пор в науке нет единства в определении естественных границ молодежного возраста, адекватных психологическому, физиологическому и социаль- ному возрасту человека. Но представители различных научных школ едины в том, что определение этих границ связано с началом и завершением самосознания личности молодого человека. Таким образом, по мнению одних авторов, молодой – это человек в возрасте от 13 до 25 лет, по мнению других, – от 16 до 30. Однако в соответствии с законодательством Российской Федерации, молодым человеком считается человек, возраст которого укладывается в границы от 14 до 29 лет [6. С. 205–206]. Следовательно, он охватывает не только период формирования личностного самосознания, но и период, когда закладывается базовая система ценностей и достигается «реализованная» этническая идентичность. Но социализация современного поколения российской молодежи, как отмечалось выше, проходила в момент слома советской идентичности; и для молодого поколения поиск своей идентичности оказался болезненным вопросом [3. С. 252].
В связи с этим нами было проведено исследование, по результатам которого предполагалось определить сформированность этнической идентичности и проследить ее влияние на выбор поведенческих стратегий молодыми людьми в процессе межэтнического взаимодействия в условиях поликуль-турного пространства Новосибирска. Многие современные исследователи в своих работах под поликультурными обществами понимают такие, в которых существует множество (более двух) этнических групп с выраженной численностью, вне зависимости от того, как долго они проживают на данной территории, являются ли «коренными» или «мигрантами», «титульными» или «нетитульными». Предполагается, что данные этнические группы имеют равные права и являются гражданами государства [2. С. 109]. Новосибирск представляет собой один из крупнейших городов – поликуль-турных центров, исторически сложившихся на территории современной России. Это связано, прежде всего, с миграцией представителей различных народов на территорию края, а также с урбанизационными процессами XX в., характерными для многих российских регионов, и др.
Население современного Новосибирска составляет около 1,5 млн чел. [7. С. 16]. В городе помимо русских, доля которых составляет 94 %, проживают немцы, украинцы, татары, казахи, белорусы, армяне, азербайджанцы, чуваши, евреи (перечисле- ны в порядке убывания численности) и многие другие этносы [4. С. 5]. Этническое многообразие представлено и в учебных заведениях города. В вузах увеличение числа нерусскоязычных студентов, прежде всего, объясняется «учебной миграцией», т. е. желанием получить образование в России. В средних специальных и общеобразовательных учреждениях приток нерусскоязычных учащихся в основном связан с переездом их родителей в Новосибирск по разным причинам, но в основном в поисках работы. Последняя тенденция особенно прослеживается в школах, которые расположены вблизи крупных рынков в отдаленных районах города. С учетом этой специфики, а также таких факторов, как территориальный, профессиональный, гендерный нами и было проведено исследование в различных школах, ссузах и вузах Новосибирска, с целью получения данных, представляющих реальную картину межэтнических отношений в молодежной среде. Основным методом сбора информации выбран опрос в форме анкетирования. Для получения комплексного анализа мы предприняли попытку включить в состав анкеты несколько различных методик, объединив их в блоки в соответствии с направлениями исследования: тест Куна – Макпартленда, методика исследования этнических аффилиативных тенденций, опросник И. М. Кузнецова и С. В. Рыжовой «Культурно-ценностный дифференциал», тест Г. У. Солдатовой «Типы этнической идентичности», шкала социального дистанцирования Богардуса. Всего в ходе опроса нами было охвачено 862 чел.: из них более 80 % считают себя русскими, 1,2 % опрошенных отнесли себя к татарам, по 0,6 % указали свою этническую принадлежность – казахи, немцы и украинцы, по 0,5 % набрали армяне и тувинцы. При этом 2,4 % ответили, что являются метисами. Важно отметить, что достаточно высокими оказались показатели, свидетельствующие о несформированности этнической идентичности: 6,2 % респондентов ответили – «не знаю» или поставили прочерк, 3,5 % затрудняются определить свою этническую принадлежность и 1,6 % назвали себя «космополиты». Заметим, что в реальности человек имеет больше вариантов выбора, чем полная идентификация с одной из этнических общностей. Индивид может идентифицировать себя с двумя (а иногда и более) релевантными группами. Такую идентичность могут иметь не только выходцы из смешанных браков, но и люди, живущие в полиэтничном обществе.
Для выявления места и значимости этнической идентичности в структуре самокате-горизации был использован модифицированный тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?», при помощи которого исследовалась субъективная значимость этнической идентичности для молодежи. Данный тест позволил определить, насколько часто респонденты используют этническую категорию в актуальном самоопределении. 12,9 % респондентов всего массива указали этническую принадлежность, у 87 % она вообще не была актуализирована. Выявлены некоторые расхождения в этнических группах: максимальная значимость этнической принадлежности выявлена у алтайцев – 33 % и татар – 12,5 % опрошенных, а минимальная – у белорусов, немцев, украинцев, мордвы и пр. – 0 %. В целом можно говорить о сравнительно низкой значимости этнической принадлежности для всех этнических групп. Низкая значимость этнической принадлежности может свидетельствовать о благоприятной обстановке межэтнического общения в данном поликультурном регионе, а также об отсутствии напряженности и проблем в этой сфере. Однако полное вытеснение этнической идентичности из иерархии самоиден-тификационных категорий может обернуться для личности неблагоприятными последствиями, например разрывом с родной культурой и утратой довольно серьезной поддержки со стороны этнической группы. Кроме того, отсутствие или не-сформированность этнической идентичности заставит индивида обратиться к поиску другой ее заменяющей категории, например, обращение к космополитической или гражданской идентичности. Данная стратегия была продемонстрирована частью наших респондентов.
Большинство респондентов, отвечая на вопрос «Кто Я?», прежде всего, выбирают те роли и позиции, к которым они чаще всего обращаются в повседневной жизни.
Этническая принадлежность в целом по выборке занимает шестое место, пропуская вперед семейную, гендерную, профессиональную принадлежности. Такая тенденция прослеживается у представителей всех представленных этнических групп. Религиозный фактор тесно связан с этничностью, но в структуре самоидентификации нашей выборки религиозная принадлежность не была актуализирована – 1,1 %.
Невысокая значимость этнической и конфессиональной идентичности может свидетельствовать либо об отсутствии опыта межэтнического взаимодействия, либо отражать достаточно спокойную и благоприятную, бесконфликтную ситуацию межкультурного взаимодействия в регионе. Последний вариант представляется более правдоподобным.
Также значимость этнической принадлежности исследовалась нами с помощью утверждения: «Считаю, что современному человеку его национальность должна быть безразлична», отношение к которому респондентам предлагалось выразить, выбрав один из вариантов ответа: согласен – не согласен – не знаю.
Большинство респондентов – 61,4 %, опрошенных нами, не согласны с этим утверждением. Выраженность этноаффилиатив-ных тенденций предполагает склонность действовать в соответствии с принятыми нормами, правилами своей этнической группы. Нужно отметить, что респонденты во всех этнических группах ответили на вопрос примерно в одинаковой пропорции, но среди лезгин, мордвы, белорусов, чувашей и бурят выраженность этноаффилиативных тенденций оказалась несколько выше, чем среди остального населения. Это может свидетельствовать о том, что в условиях инокультурного окружения они чувствуют себя в некоторой изоляции, отсюда и потребность в этнической идентичности.
Характер чувств, испытываемых по отношению к собственной группе, и их изменение отражают динамику образа группы с точки зрения привлекательности – непривлекательности и влияют на ее взаимоотношения с другими группами. Используя методические разработки «Этническая аффилиация» и тест Г. У. Солдатовой «Типы этнической идентичности», учитывая уровень потребности и выраженности этно-аффилиативных тенденций у представителей обследуемых этнических групп, мы фиксировали, насколько выражена у них позитивность этнической идентичности. У 39,2 % опрошенных зафиксирована высокая потребность в этнической принадлежности, у 51,6 % – низкая, и 9,2 % составляют те, кто на данный момент затрудняются и не могут определить, насколько значима для них идентификация со своей этнической группой. Полученные данные позволили выявить наличие определенного этноцен- тризма и чувства гордости за свой народ; чаще всего позитивные эмоции отмечали буряты – 50 %, русские – 39,3 %, татары – 37,5 %, алтайцы – 33,3 %. В то же время у определенной части представителей русского этноса – 9,9 % просматриваются процессы этнической дезинтеграции и формирования чувства стыда за свой народ. Последнее подтверждают и результаты второй методики, направленной на выявление типов этнической идентичности молодых горожан. Так, для 9,9 % респондентов характерно отсутствие четкой выраженности черт, присущих какому-либо типу этнической идентичности. У подавляющего большинства наших респондентов выражена позитивность этнической идентичности – 69,3 %, причем эта тенденция наблюдается у представителей практически всех опрашиваемых нами этнических групп, что свидетельствует об их миграционной мобильности, коммуникабельности, адаптивности к жизни в полиэтничной среде и высоком уровне толерантности.
Для изучения этноситуации, существующей в городе, немаловажное значение имеют показатели силы этничности, отклоняющиеся от нормы со знаком «плюс» и «минус». Так, этноцентризм как проявление идентичности присущ 7,0 % молодежи всего массива. Этнофанатизм, представляющий крайнюю форму этноцентризма, отмечен у 2,8 % респондентов, при этом следует отметить, что наиболее высок этот показатель у тувинцев – 25 % и татар – 6,3 %; для сравнения у русских данный показатель составляет лишь 2,8 %, т. е. совпадает с общим показателем.
Интересными для понимания процессов являются сведения о стремлении этносов к самоизоляции. Анализ полученных нами результатов показывает, что данный процесс просматривается лишь у 6,3 % татар и 3,9 % русских, общий показатель достигает 2,9 % от числа опрошенных. Показатель равнодушия и негативного отношения продемонстрировали соответственно 6,7 % и 1,5 % молодежи, проживающей в Новосибирске. Чаще всего негативные эмоции отмечали представители молодежи, которые затруднялись в определении или не указали своей этнической принадлежности – 7,6 %. Возможно, негативные чувства, связанные с этнической принадлежностью, отражают переживание ими снижения статуса собственной этнической группы или полную ут- рату таковой, что в последнее десятилетие связано с общей этнополитической ситуацией в стране. Утрата или вытеснение такого важного для личности аспекта психосоциальной идентичности, как этническая идентичность приводит к весьма печальным для личности итогам. С одной стороны, «Я – концепция» становится фрагментарной, теряет свою целостность, с другой – потеря связей с древней и устойчивой социальной группой – этнической – лишает человека поддержки, оставляя чувство покинутости, неприкаянности, одиночества [2. С. 105].
В целостной структуре этнической идентичности выделяют когнитивный и аффективный компоненты. В частности, когнитивный компонент включает в себя знания и представления о своей и чужой культурах, этнические авто- и гетеростереотипы. Аффективный – всю совокупность чувств, эмоций, испытываемых этнофором по отношению к его этнической группе и факту принадлежности к ней.
Для определения групповых ценностных ориентаций и автостереотипов мы использовали опросник И. М. Кузнецова и С. В. Рыжовой. В данном случае нам были интересны универсалии, определяющие ориентации респондентов в диапазоне «направленность на взаимодействие – отвержение взаимодействия» по параметрам толерантности – ин-толерантности.
В сознании опрошенных наблюдается превалирование позитивных автостереотипов. В частности, ответы респондента о наличии миролюбия как характерной черты для его народа наглядно продемонстрировали это: лишь 3,1 % русских признались, что у их народа данное качество отсутствует, остальные опрошенные с этим не согласились. Значительное преобладание позитивных автостереотипов при практическом полном отсутствии негативных в ответах представителей всех этнических групп указывает на активизацию механизмов социально-психологической защиты и сплочения группы и повышения уровня позитивной этноидентичности ее членов.
Анализ данных респондентов о своей этнической общности также продемонстрировал наличие критического отношения к ней вне зависимости от этнической принадлежности респондентов. Однако относительно высокий процент, указывающий на агрессию как характерную черту у тувинцев – 75 %, украинцев – 55,5 %, русских – 53,3 %, чувашей – 50 %, татар – 46,6 %, бурят – 33,3 % немцев – 25 %, армян – 25 %, безусловно, настораживает. Это заставляет предположить, что представители данных групп таят в себе конфликтогенный потенциал, который при определенных обстоятельствах может привести к состоянию напряженности в сфере межэтнического взаимодействия и представлять угрозу для мирного сосуществования и взаимодействия.
Для определения четкости – амбивалентности (определенности – неопределенности) этнической идентичности использовался такой показатель, как степень близости и понятности представителей других этнических групп, которая оценивалась с помощью утверждений: «Я человек, который трудно уживается с представителями своей национальности» и «Если бы я имел возможность выбора национальности, то предпочел бы ту, которую имею сейчас».
В целом по выборке большинство опрашиваемых – 73,6 % не согласилось с первым утверждением. Наиболее четкую этническую идентичность продемонстрировали русские – 76,8 %. Наиболее неопределенная (амбивалентная) этническая идентичность обнаружена у тех респондентов, которые затруднились определить или не указали свою этническую принадлежность.
Сходная картина наблюдалась при анализе ответов на второе утверждение: «Если бы я имел возможность выбора национальности, то предпочел бы ту, которую имею сейчас»; 69 % участвующих в опросе молодых людей утвердительно согласились с предложенным суждением, 10 % ответили, что скорее согласны. Таким образом, доля респондентов, которые «сомневаются» и готовы изменить свою этническую принадлежность, составляет 21 %.
Амбивалентность этнической идентичности, которую частично продемонстрировали представители некоторых этнических групп, опрашиваемых нами, вероятно, связана с невысоким статусом последних в данном регионе.
Особого изучения среди прочих проблем поликультурного региона заслуживают вопросы, связанные с толерантностью как этнической, так и конфессиональной.
Большинство опрошенных нами респондентов считают, что религия выполняет интегрирующую функцию. Так, с утверждением: «Народам, исповедующим одну и ту же религию, легче понять друг друга» согласи- лось 63,7 %, а с утверждением «Взаимопонимание между народами не зависит от того, какую религию они исповедуют» – 44,9 %.
Также нас интересовало, насколько фатальным считают наши респонденты этнические границы, насколько этническая принадлежность может разъединять людей и осложнять их взаимопонимание. Полученные результаты показывают, что практически половина (49,1 % – 53,7 %) респондентов во всех этнических группах считает, что этническая принадлежность всегда будет разъединять людей, чаще всего с этим ответом соглашались русские.
В отношении к утверждениям: «Если в семье появляется человек другой национальности, то это, скорее всего, осложнит взаимопонимание» свое согласие выразили 50,9 % молодежи, «считаю, что межнациональные браки разрушают народ» – 44,1 %.
Скорее всего, противоречивые на первый взгляд тенденции, отразившиеся в ответах респондентов на вопросы об отношении к национальности как дифференцирующему признаку, свидетельствуют о процессах, связанных с желанием избежать этнокультурного смешения. С одной стороны, опрошенные признают разделяющую роль национальности и хотят, чтобы их окружали представители их этнической группы. С другой – они демонстрируют приемлемость межэтнических браков.
Следующим показателем межэтнических установок являются данные, полученные с помощью шкалы социальной дистанции Э. Богардуса. Результаты анализа массива данных показали, что наименьшая социальная дистанция у опрошенных жителей Новосибирска с «русскими» и представителями «славянских народов», а наибольшая – с «лицами кавказской национальности», «чеченцами», «цыганами». На наш взгляд, в данных, полученных с помощью методики социальной дистанции Э. Богардуса, находят отражение как близость – отдаленность культур, так и выше упомянутая иерархия статусов. Можно заметить, что негативное отношение проявляется, прежде всего, к народам, которые для опрашиваемых ассоциируются с присутствием их представителей в сферах рыночной торговли и нелегального бизнеса, а также представителям национальностей из регионов этнических конфликтов.
В ряде случаев при ответе об этнических опасениях или нежелании общаться опра- шиваемые вписывали конфессиональную принадлежность, например «мусульмане», что указывает на тенденцию не разделять «этническое» и «конфессиональное» в ряде сложившихся стереотипных категориях-образах. Однако следует отметить, что наличие религиозных или этнических предубеждений не предполагает обязательную их манифестацию. Так, многие респонденты при ответе добавляли, что коммуникативное взаимодействие и совместное проживание в городе представителей различных этносов и религий оказывает позитивное воздействие на культурное развитие.
Итак, анализ данных, включенных в блок этнической толерантности, позволяет сделать следующий общий вывод: представители всех этнических групп признают дифференцирующую роль этничности и религии и при этом сохраняют толерантное отношение друг к другу, о чем свидетельствует близкая социальная дистанция между представителями групп.
Исходя из вышеперечисленных позиций и полученных результатов, можно прийти к выводам о том, что этническая идентичность современной молодежи имеет крайне противоречивый и незавершенный характер. Во всех обследованных нами этнических группах этническая идентичность выражена незначительно. Это может свидетельствовать об отсутствии гипертрофированной этнической идентичности, а вместе с ней и об отсутствии в данном городе межэтнической напряженности.
Материал поступил в редколлегию 17.08.2006