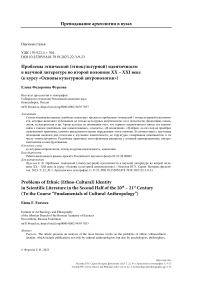Проблемы этнической (этнокультурной) идентичности в научной литературе во второй половине XX - XXI веке (к курсу "Основы культурной антропологии")
Автор: Фурсова Е.Ф.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Преподавание археологии в вузах
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу наиболее известных трудов по проблемам этнической / этнокультурной идентичности, которые включают публикации не только культурных антропологов, но и психологов, философов, социологов, культурологов и пр. Автор исходит из понимания того, что термин «идентичность» ввиду его взаимосвязи с такими понятиями, как «самосознание», «самость», «Я-концепция», «Я-образ» до сих пор не приобрел однозначной трактовки, единого разделяемого всеми определения этого понятия. В соответствии с научными позициями выделен ряд подходов к изучению идентичности, ее структуры, содержания компонентов, в их числе этнокультурного. Различные трактовки этого феномена раскрыты с позиций примордиализма, инструментализма и конструктивизма.
Культурная антропология, этнокультурная идентичность, концепции
Короткий адрес: https://sciup.org/147240213
IDR: 147240213 | УДК: 159.922.4 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-3-9-23
Текст научной статьи Проблемы этнической (этнокультурной) идентичности в научной литературе во второй половине XX - XXI веке (к курсу "Основы культурной антропологии")
Французский философ П. Рикёр, наверное, первым обратил внимание на семантическую двусмысленность, «угрожающую понятию “идентичность”» [Рикёр, 1995, с. 19]. «Идентифицировать» и «различать», по его мнению, составляет нераздельную глагольную пару: для того, чтобы идентифицировать, нужно различить, и, различая, мы идентифицируем. В истоках понятия идентификации лежит отношение «к самому себе» в его отличии от «по отношению к иному» [Рикёр, 2010, с. 30–32].
В 1980–1990-х гг. к исследованию идентичности обратились культурные антропологи, этнологи, социологи, психологи, философы, культурологи, историки, что помогло значительно продвинуться в понимании феномена идентичности и ее роли в гармоничном функционировании общества или группы. К настоящему времени значительный вклад в исследование этнической идентичности внесли ученые Института этнологии и антропологии РАН, Центра исследования межнациональных отношений, Центра теоретических и историко-социологических исследований Института социологии РАН и др.
Обзор антропологических исследований
Этнической (этнокультурной) 1 идентичности посвящено немало исследований, в том числе содержащих различные трактовки этого феномена с позиций примордиализма, инструментализма и конструктивизма. Первичную основу изучения проблемы этнической идентичности и связанного с этим понятием осмысления этнических процессов заложили этнологи. Сторонники примордиалистского (или близкого к нему) подхода (С. А. Арутюнов, Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилёв, В. И. Козлов, М. В. Крюков, В. В. Пименов, С. М. Широкого-ров и др.) рассматривали этническую идентичность как объективное фундаментальное свойство человеческой природы, не подверженное или мало подверженное изменениям. С. М. Широкогоров еще в 1920-х гг. применил словосочетание «самосознание этноса» и сформулировал понятия «наклонности», «привычки» как «способность повторяться постоянно», введя вместе с этим теорию «психоментального комплекса» [Путешествия…, 2021, с. 528–534]. Сторонники этого подхода исходят из понимания этноса как категории, обладающей объективными характеристиками, коренящимися в кровных связях: раса, тип, язык, территория, религия, мировоззрение и т. д. Для объяснения этих исконных связей немного позднее в рамках социальной психологии была предложена теория аффилиации (естественная потребность в принадлежности к группе, обществу). В 1970–1980-х гг. на основе естественноисторической трактовки этничности Ю. В. Бромлеем разработана теория этноса, получившая широкое распространение, прежде всего в советской этнографии [Бромлей, 1983, с. 44]. В научный обиход было введено общее для всех типов этнических общностей понятие «этническое самосознание», несколько позднее В. И. Козлов и другие ученые выдвинули этническое самосознание на первое место среди признаков этноса, которое фиксируется в форме самоназвания, т. е. этнонима [Бромлей, 1983, с. 173, 180; Козлов, 1974, с. 85]. Сфера этнического сознания, по мнению ученых, может быть направлена как внутрь этноса, на осознание этнического бытия, исторических судеб народа и пр., так и вне его – на межэтнические контакты [Козлов, 1974, с. 84]. Ю. В. Бромлей ввел узкое и широкое понимание обсуждаемого термина: в первом случае человек относит себя к тому или иному народу, в широком смысле предполагается не только самоотнесение к национальности, но и представление о ней (автостереотипы), ее истории, культуре, территории, государственности при ее наличии. В качестве критерия «этнической диагностики» у Л. Н. Гумилёва (естественногеографическая или биологизаторская трактовка) выступает «ощущение» принадлежности к тем или иным общностям-этносам, которые образуются в процессе пассионарного импульса и гармонически сочетаются с ландшафтами земли [Гумилёв, 1993, с. 484]. Представление об этносе как совокупности информационных связей и уровней их плотности было предложено этнографами С. А. Арутюновым, Н. Н. Чебоксаровым [Арутюнов, Рыжакова, 2004, с. 54, 55].
В конце ХХ в. под влиянием англоязычных трудов в области антропологии отечественная этнология перешла с термина «самосознание» на кальку с английского «identity» с широким и продолжающим расширяться смысловым диапазоном (немецкий термин «Identiatat» означает идентичность более конкретно – как «историческую индивидуальность»).
У зарубежных авторов это теоретическое направление было реализовано в исследованиях К. Гирца, К. Фокс, У. Коннора, E. Шилза и др.). К. Гирц писал о национализме, идентичности, природе человека, стараясь не отрываться от «прочной поверхности жизни», от реалий политики, экономики, социальной стратификации. «По существу задача интерпретативной антропологии, – считает ученый, – не в том, чтобы дать нам ответ на самые сокровенные наши вопросы, но в том, чтобы дать нам доступ к ответам других…» [Гирц, 2004, с. 39–40]. Обозначив отрицательные и положительные стороны религиозного фанатизма и националистической ненависти, Гирц писал о том, что надо стремиться понять, почему эти феномены принимают именно такие формы, а не иные, так как эпоха идеологии и сдвигов в общественном самосознании в новых государствах еще не завершена [Там же, с. 290].
Из зарубежных исследователей интересны взгляды английского антрополога К. Фокс, которая на основе метода включенного наблюдения «и его издержек» пришла к выводу о том, что именно сокрытые, неписаные правила поведения англичан определяют национальную самобытность, а большинство людей повинуются законам инстинктивно, не сознавая, что они делают. Ученая с позиций генетической трактовки культуры следует утверждению, что «самобытность носит непрерывный характер, простирается в будущее и в прошлое, в ней заложено нечто неискоренимое, как в живом существе» [Фокс, 2013, с. 10]. При этом Фокс невозможно отказать в профессионализме и великолепной наблюдательности, позволившей «прислушаться к музыке смыслов жизни».
-
У. Коннор, рассуждая о разногласиях с Э. Смитом по поводу сущности наций, подчеркивал совершенно разные подходы по вопросу идентичности, а именно конфликта гражданской и этнической идентичности. Неважно, утверждал Коннор, когда возникла нация, так как, если время хронологической истории нации может быть недавним, то в народном восприятии
ее членов она «вечна», «вне времени». Национальная идентичность, по его мнению, основана на эмоциональной психологии предполагаемых родственных связей и, соответственно, принадлежит сфере подсознательного и нерационального [Connor, 2004; Smith, 1991].
Инструменталистский подход, признающий объективное существование этнического самосознания, но считающий, что оно активизируется только в ситуациях, стимулирующих его эксплуатацию для достижения политических, экономических и иных прагматических целей, т. е. чувство этничности (и идентичности) в обычном состоянии просто «дремлет» в людях. Такой подход позволяет рассматривать некоторые сложившиеся этнические идентичности как мобильные, способные при определенных обстоятельствах изменять конфигурацию. В рамках инструменталистских подходов выполнен ряд трудов отечественных этнографов, в том числе на основе социологического метода анализа (М. Н. Губогло, Л. М. Дробижева, С. В. Чешко и пр.).
Большое значение имеют труды о соотношении этнической и региональной идентичности, взаимосвязи между социальными трансформациями и процессами формирования этнической, конфессиональной и ряда других идентичностей, подходы к изучению двуязычия, этничности и идентичности (см. [Губогло, 2003; Границы…, 2012] и др.). М. Н. Губогло считал, что региональную идентичность можно определить как соотнесение самих себя (людей) с определенной местностью, традициями и сложившимся укладом повседневной жизни [Гу-богло, 2003]. По меткому определению географа М. Крылова, региональная идентичность отвечает на вопрос «кто мы?» и представляет «совокупность культурных отношений, связанных с понятием “Малая родина”» [Крылов, 2010, с. 13]. Региональная идентичность, считает автор, – это внутренний (с точки зрения местных жителей) и обычно «нераскрученный» имидж территории, включающий внутренний набор образов, символов, мифов, в отличие от внешнего имиджа (с точки зрения мигранта, политтехнолога, организатора туризма, путешественника и пр.) [Там же, с. 71]. Роль «локальностей» традиций разного типа в формировании идентичности рассматривается в статье И. А. Морозова, в которой в рамках психокультурного подхода утверждается, что для каждой культуры характерен особый топос («образ культуры»). Локальная идентичность выступает в качестве базовой и относительно стабильной, считает автор, в то время как культурная («топическая») может изменяться в зависимости от различных внешних (социальных, политических, экономических) факторов [Морозов, 2015, с. 7].
В этой связи чрезвычайно большое значение приобретает понятие «этнокультурного кода» и связанной с ним этнокультурной идентичности индивида, в которую включены базовые ценности народа, морально-этические идеалы, представления о своем месте и своем имени (этнониме) в мире. К мнению о том, что этноним-самоназвание народа является самым ярким проявлением этнического самосознания, добавим, что и народные коллективные названия групп (прозвищ) отражают определенную степень их этнокультурного самосознания [Фурсова, 2019, с. 33].
Конструктивистский подход к интерпретации феномена этнокультурной идентичности впервые был реализован в исследованиях зарубежных ученых (Б. Андерсон, Ф. Барт, П. Бурдье, Дж. Комарофф, Э. Геллнер, A. Д. Смит, С. Хантингтон и др.) в середине 1970 – 1980-х гг. Согласно этому подходу этничность и представления о ней являют собой искусственный конструкт, создаваемый интеллектуальной элитой (политологами, писателями, учеными и пр.). Этнос, этническая группа, нация, по отношению к которым антропологи часто повторяют фразу Б. Андерсона о «воображаемых сообществах», формируются не на основе общности происхождения, а на основе представлений о своем происхождении, истории, психологическом складе. Отправной точкой для Б. Андерсона стало то, что национальность, «вместе с ней и национализм» являются особого рода культурными артефактами, и в задачи исследования входит показать, почему эти артефакты порождают в людях такие глубокие привязанности [Андерсон, 2001, с. 29].
В работе «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон не вводит понятие «социальная идентичность», но, как он предполагает, под этим термином следует понимать онтологическое убеждение (личности, группы), проявленное в процессе взаимодействия с некоторой «инаковостью» (т. е. идентичность можно определить только через отношение к «другим») [Переслегин, 2003, с. 588]. Одни идентичности, по мнению Хантингтона, образуют цивилизации (таких насчиталось восемь, одна из которых русская), другие не образуют, при этом никакие идентичности никогда не смешиваются. Большое внимания ученый уделил проблемам идентичности в другой книге «Кто мы?..», где он постарался ответить на вопрос, что сплачивает людей в период кризиса идентичностей [Хантингтон, 2008, с. 49, 51]. «Люди конструируют собственные идентичности, занимаясь этим кто по желанию, кто по необходимости или по принуждению. …идентичности – воображаемые сущности: то, что мы думаем о самих себе, то, к чему мы стремимся. Не считая культурной наследственности (от которой можно и отречься), пола (который можно и сменить) и возраста (который нельзя изменить, но с которым можно бороться), люди относительно свободны в определении собственной идентичности…» [Там же, с. 51].
В ситуации существования полиэтнических сообществ Ф. Барт, один из отцов-основателей конструктивизма, признавал социальное значение этнической идентичности и ее принудительную силу ограничивать поведение индивида [Барт, 2006, с. 20]. Было высказано мнение, что этно- или национально-культурная идентичность есть результат социального конструирования, и она может рассматриваться как одна из форм контроля, «диктата государства». Наибольшее распространение конструктивистский подход получил там, где этносы развивались на вновь осваиваемых территориях, не имея естественной укорененности (Америка, Австралия, Канада). Несмотря на ограниченность сферы применения подобного подхода, он, как оказалось, отражает и вполне объективные социальные реалии. К слову, известен пример деятельности администрации Ханты-Мансийского автономного округа по консолидации пестрого с этнической точки зрения местного населения. При этом декларировалось формирование нового этноса – «сибиряки» (позднее «югряне») с широким привлечением новой символики и нового названия края – Югра [Костина, 2011а, с. 28].
Конструктивистское направление получило развитие в работах отечественных ученых Р. Г. Абдулатипова, В. С. Малахова, С. В. Соколовского, В. А. Тишкова и др. В Институте этнологии и антропологии РАН многие годы этническое самосознание является объектом масштабных исследований на стыке этносоциологии, политологии, социальной психологии [Тишков, 2011, с. 12, 13]. Методология этих исследований строится на взаимодействии структурных характеристик общества, внимании к этнокультурным и этносоциальным особенностям общностей (групп людей) и когнитивно-мотивационной сферы личности. В ситуации актуализации этничности 1990-х гг. В. А. Тишков акцентировал идею «дрейфа идентичностей», «этнического дрейфа» и высказался за переключение внимания населения с этнической идентичности на государственную – российскую, подчеркивая значение этой общегосударственной идентичности [Тишков, 2001, с. 233].
Сегодня исследователями признается множественность и не взаимно исключающая природа этнической идентичности [Хершак, Кумпес, 1993, с. 29–30; Тишков, 2001, с. 37, 229– 233; Малахов, 2002, с. 136; Русские: этнокультурная идентичность, 2013; Костина, 2011б]. Выделяются уровни идентичности, которые связаны со структурами, принадлежащими национальной, этнической и массовой культурам, которые существенно дополняются и корректируются иными формами и типами идентичности (цивилизационной, конфессиональной, субкультурной, расовой, гендерной и пр.). Идентичности могут выступать в качестве персональных или коллективных, как носить устойчивый характер, так и формироваться ситуативно, проявляться как взаимодополняющие, позитивные и как конфликтные, противоречивые, подчас антагонистические [Костина, 2011б, с. 59].
Может быть, по этой причине, М. Секефелд писал, что в условиях множественности идентичностей и их различий человеку необходимо обладать чем-то еще, чтобы оставаться самим собой. Иначе говоря, то, что остается «тем же самым» (самим собой), является рефлексивным чувством основного различия между собой и всем остальным [Sökefeld, 1999, p. 417]. Исследование этнокультурной идентичности тесным образом связано с решением проблемы критериев формирования этнического самосознания. В последние годы в трудах антропологов и философов предлагается различать идентичность как внутреннее чувство (осознание себя, Self) в сравнении с внешней информацией о себе, т. е. со стороны [Sökefeld, 1999, p. 417]. Высказывалось предположение, что у каждого народа есть некая «центральная зона» – средоточие ценностей и верований, определяющих природу «священного» для каждой культуры, т. е. этнические общности обладают культурным стержнем, не осознаваемым ни их членами, ни внешними наблюдателями [Shills, 1961, p. 117; Лурье, 1997, с. 183].
В работах последних лет поднимаются важные вопросы групповой идентификации как в историческом прошлом, в том числе в составе СССР, так и в глобализирующемся мире. Знаковым для отечественной этнографии стал выход сборника научных статей «Феномен идентичности в современном гуманитарном знании» (2011), в котором исследователи разных областей знания высказали свой взгляд на феномен этнокультурной идентичности. В. М. Михайлов пришел к выводу, что без этнической, региональной, родовой идентичности не может быть чувства привязанности к России, т. е. российской идентичности [Михайлов, 2011, с. 119].
Работы психологов и психокультурное направление
Значительный вклад в понятие и сферу применения этнической идентичности внесли психологи , причем, длительное время эта проблематика была в фокусе зарубежных ученых. Идентичность как психологическая потребность исследована в рамках гуманистического психоанализа Э. Фромма (2009). Американский философ Э. Фромм, отнеся идентичность к числу самых глубинных потребностей человека, рассуждал о том, что индивид в любом обществе должен объединяться с другими, если вообще хочет выжить, либо для защиты от врагов и опасностей природы, либо для того, чтобы иметь возможность трудиться и производить средства к жизни. Он писал: «Способность мыслить позволяет человеку – и заставляет его – осознать себя как индивидуальное существо, отдельное от природы и от остальных людей… Сознавая свою отдельность… человек не может не чувствовать, как он незначителен… Если он не принадлежит к какой-то общности, если его жизнь не приобретает какого-то смысла и направленности, то он чувствует себя пылинкой, ощущение собственной ничтожности его подавляет». Человек, не ощущающий своего «Я», слепо следующий за другими, предает себя, закрывает путь к полноценной реализации и креации [Фромм, 2009, с. 25].
Американский антрополог, представитель психокультурного направления антропологии, Дж. Де Вос анализирует проблему в исторической динамике, выделяя различные ориентации «Я»: на настоящее (как гражданина государства и как индивида, имеющего определенный социоэкономический статус), на будущее (как приверженца какой-либо идеологии в светской или религиозной форме) и на прошлое, т. е. на какую-либо определенную форму этнической идентичности. Индивиды, разделяющие ту или иную этническую идентичность, объединены в этнические группы, которые количественно могут иметь различные размеры (от мини до мега), но в качественном отношении все они выполняют функцию носителя разнообразия социальной общности (современной или традиционной) [Белик, 2009, с. 256]. В своей концепции этнической идентичности Дж. Де Boc подчеркивал, что во многом основой культурной (этнической) идентичности является аффективно-замещающая связь (привязанность) человека с культурой и образом малой родины, которая нисколько не мешает гражданской этнополитической идентичности страны, государства. Консолидирующим моментом концепции Де Boca является преемственность поколений в единстве чувственного и рациональ- ного осмысления этого феномена и достаточно сбалансированные взаимоотношения между личностью и общностью [Белик, 2009, с. 260, 288].
Американский психолог Э. Эриксон выделил понятие «психосоциальной идентичности» как продукта взаимодействия между общностью и личностью, которая характерна только для зрелой личности, у которой «внутренняя тождественность и непрерывность» интегрирована с социальными структурами (государством, нацией, социальными группами). Инструментом идентификации выступает «идеология», «систематизированная совокупность идей и символов». В психосоциальной идентичности Эриксон выделил позитивные и негативные элементы, ввел понятие «кризисов личностной идентичности», указав на их неразрывную связь с кризисами общественного развития [Эриксон, 1996, с. 298].
В отечественной психологии исследования по проблеме этнокультурной (этнической) идентичности принадлежат Б. А. Вяткину, В. Ю. Хотинец (1997), Ю. П. Зинченко, Г. У. Солдатовой, Л. А. Шагеровой (2016) и др. Расширяя сферу переносимых на себя этнических свойств и особенностей «других», человек оценивает систему сущностных свойств применительно как к себе, так и к другим, в результате чего возникает ощущение похожести себя на окружающих других. Значит, подытоживают Б. А. Вяткин и В. Ю. Хотинец, у человека складывается образ самого себя и своего поведения, привязанный к условиям бытия конкретной этносоциальной общности, к которой он себя причисляет [Вяткин, Хотинец, 1997, с. 22].
Этническая идентичность понимается группой исследователей под руководством Г. У. Солдатовой как разделяемые членами этнической группы общие представления – осознание общей истории, культуры, традиций, места происхождения, государственности. Механизмами интериоризации (перевода из внешнего во внутренний план) установок, норм, схем поведения группы являются эмоционально-когнитивные и ценностные процессы этнической идентификации и межэтнической дифференциации [Солдатова, 1996, с. 296]. Исследователи пришли к выводу, что в числе основных интегрирующих внутригрупповых категорий и, следовательно, одним из главных параметров межэтнического сравнения оказались психологические особенности этнических групп [Там же, с. 315].
В последние годы появились работы, посвященные методологическим проблемам этнокультурной идентичности как объекта психологического исследования, в которых обосновывается необходимость применения постнеклассического подхода к изучению этого феномена [Зинченко, Шайгерова, 2016, с. 23]. Междисциплинарный характер понятия этнокультурной идентичности требует дальнейшей интеграции знаний наук, причем не только гуманитарных – этнологии, антропологии, культурологии, философии, социологии, истории, но и привлечение таких дисциплин, как нейробиология и психофизиология. В свете современных представлений этнокультурная идентичность наряду с другими элементами идентичности (гендерная, возрастная, статусная, профессиональная и пр.) включена в другую сложную са-моразвивающуюся систему – общую идентичность, элементы которой взаимодействуют между собой [Там же, 2016, с. 33].
Вклад философов и культурологов в проблему идентичности
Массив идей и концепций по проблемам региональной и этнокультурной идентичности был высказан философами и культурологами. В целом философы рассматривают идентичность как степень совпадения идеалов, ценностных ориентаций, социальных установок, мировоззренческих позиций и пр. с ценностными ориентациями, социальными установками, мировоззренческими позициями социальной группы. Что касается определений феномена этнической идентичности, то и здесь прослеживается общность толкований, как то: психологическая потребность человека в упорядочении представлений о себе и своем месте в мире, подсознательном стремлении к обретению единства с окружающим миром, что достигается посредством интеграции в культурно-символическое пространство социума. При этом эволюция исторических форм этнокультурной идентичности, по мнению И. В. Малыгиной, не сводится к линейному движению от родовой формы идентичности к этнической и национальной, но представляет процесс интеграции и дистрибуции идентификационных оснований. Исходя из положения о том, что контуры и границы современной национальной идентичности образуются путем напластования предшествующих исторических форм, автор дает характеристики: 1) идентичности архаических человеческих сообществ, которая содержала в себе уже значительный этнокультурный ресурс (на основе тотемистических верований); 2) этнической идентичности, которая сложилась в ходе этногенеза и когда реальное родство предыдущего периода постепенно заменилось сакральным осознанием единства на основании иных, не родственных признаков; 3) национальной идентичности, которую следует рассматривать прежде всего как результат политических процессов [Малыгина, 2011, с. 6].
По мнению И. В. Малыгиной, феномен этнокультурной идентичности обладает чрезвычайно сложной структурой. Прежде всего он несводим исключительно к рефлексивным (когнитивным и оценочным) процедурам, но отражает процессы глубинного эмоционального, почти сакрального переживания единства с некоторой этнокультурной общностью, а также различные формы его манифестации. Поэтому следует говорить о наличии в структуре этнокультурной идентичности рационального, чувственно-эмоционального, ментального и поведенческого компонентов [Там же].
Авторы коллективной монографии «Кто мы? Проблема формирования национально-культурной идентичности в современной России» считают, что культурная идентичность для россиян проявляется главным образом в языковой общности, а также в исторически сложившемся взаимопонимании между различными конфессиями. Указанная ситуация проявляется в России гораздо ярче, чем во многих других полиэтничных государствах, где идентичность основана на гражданских принципах и идее нации [Кто мы?.., 2011, с. 4]. Книга содержит понимание роли этнической (национальной) идентичности и национальной идеи в современном мире: идентичность в границах нации задается не общим происхождением, не принадлежностью к определенному месту развития, не тождеством интересов людей как интересов добрососедского развития и обороны от врагов. Идея нации неотделима от идеи свободы, символ которой представляет суверенное государство [Там же, с. 65]. Этнокультурная идентичность, по мнению В. В. Савченко, конструируется через формирование способности человека ориентироваться в окружающем пространстве и времени, определять и реализовывать себя в соответствии со спецификой ценностных ориентаций этногруппы. Исследовательница констатировала заметную трансформацию идентичности русских в советскую идентичность на завершающем этапе существования СССР [Савченко, 2009, с. 9].
Обозначив проблему идентичности как одну из значимых проблем современности на фоне нарастания неопределенности, кризисных явлений в глобальном масштабе, новосибирский ученый Ю. В. Попков пришел к выводу о необходимости формирования четкой государственной позиции по отношению не только к государственно-гражданской, но и этнической идентичности как непременного условия сохранения этнокультурного многообразия [Попков, 2019, с. 9]. Е. А. Ерохина обозначила альтернативную и комплементарную стратегии этнической идентификации, обосновывая тезис о гибридной для недоминантных этнических групп и моноцентричной для русского большинства формах идентичности [Ерохина, 2019, с. 41].
Социологические исследования и их результаты
В отечественной социологии / этносоциологии, как и в этнологии, еще три десятка лет назад оперировали понятием «самосознание». В коллективной монографии «Русские (Этносо-циологические очерки)» по материалам социологических исследований Ю. В. Арутюняном, Л. М. Дробижевой, М. Н Кузьминым, Н. С. Полищук, С. С. Савоскул были рассмотрены различные аспекты национального русского самосознания, в котором, как пишут авторы, находят отражение все стороны жизни [Русские..., 1992, с. 370]. Национальное самосознание ис- следователи понимают широко – не только как самоидентификацию, но и как представления о своем народе, его автостереотипах, культуре, территории, историческом прошлом и т. д. Заслуживают внимания результаты этносоциологических исследований 1970-х гг., когда ученые отметили этнический парадокс: особенности этнической культуры стирались, а этническое самосознание людей росло. В работе Ю. В. Арутюняна на период конца ХХ в. выделено существование четырех источников этнической (или национальной) идентичности: 1) «родовой» источник, питаемый сознанием общности происхождения и исторических судеб народа; 2) «психический» источник, включающий накопленные народом духовные идеалы – от религиозных до социальных; 3) «этнокультурный» источник – приобщенность людей к национальной культуре, нормам поведения, языку, обычаям; 4) «социальный» источник – социальная позиция и социальные интересы этноса [Арутюнян, 1990, с. 42, 49].
Состояние и динамика российской идентичности на современном этапе развития общества отражены в исследованиях Ю. В. Арутюняна, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, В. В. Коротеевой, С. С. Савоскула, Г. У. Солдатовой и др. Принимая за основу широкое бромлеевское понимание этнического самосознания, этносоциологи дополнительно включали в него интересы, осознаваемые личностью, группой как этнические (национальные). Когда этническое самосознание стало чаще называться, как на Западе, идентичностью, некоторые ученые-социологи увидели различие между этими понятиями (С. В. Рыжова, Г. У. Солдатова) в том, что в идентичности акцентируется культурно-психологическая составляющая, а в самосознании – и социально-политическая [Дробижева, 2006, с. 11].
В коллективной монографии «Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России» Л. М. Дробижева рассмотрела вопросы динамики изучаемых государственной и гражданской идентичностей российского общества на материале массовых стандартизированных и глубинных интервью ряда регионов, включая сибирский (Якутия). Использование специальных методик опроса позволило выявить факторы, влиявшие на интенсивность этнической и российской идентификаций в конце ХХ – начале XXI в. [Дроби-жева, 2006, с. 15; Русские…, 2011, с. 85–89]. Автор разграничивает этническую идентичность, которая базируется на языке, культуре, национальности родителей, историческом прошлом, территории, и российскую идентичность с основой на месте в мире, геополитическом пространстве, цивилизационном развитии, на представлениях о ресурсах страны, достижениях в культуре. При этом российская идентичность более динамична, чем этническая, выбор которой не исключает российской идентичности, а когнитивное наполнение той и другой идентичности делает возможным дополнять друг друга, что позволяет говорить об их совместимости [Дробижева, 2006, с. 28]. Сравнивая общегражданский проект и национальную парадигму развития, М. Ф. Черныш привлек эмпирический материал массовых опросов «населения» и «управленцев» и сделал вывод, что в общественном сознании существуют и конкурируют друг с другом несколько типов этнических (русской, прежде всего) идентичностей – идентичность нового российского буржуа, идентичность среднего класса, идентичность люмпена. В российских условиях этническая идентичность не может рассматриваться только как антипод общегражданских ценностей, но в одних случаях она воплощает классовый интерес, в других – сохранение и умножение национальной культуры с учетом ее интеграции в систему общегражданских ценностей [Черныш, 2006, с. 112]. Оказалось, что применительно к населению ни одна из отдельно взятых объективных переменных или их комбинаций (удовлетворение ходом реформ, группы потребления и пр.) не имеет сколько-нибудь заметного влияния на факт идентификации с этносом. Такие переменные можно отнести к категории «призраков», дремлющих в глубинах культуры и оживающих лишь в силу возникновения подходящих обстоятельств [Там же, с. 110].
Из зарубежных социологов и философов рассмотрением проблем идентичности занимался Дж. Г. Мид, считающийся основоположником парадигмы символического интеракционизма. По его мнению, люди не реагируют на внешний мир и других людей непосредственно, а осмысливают реальность в неких символах и соответственно продуцируют эти символы в ходе общения с другими людьми. Автор вводит понятие «значимого символа», под которым подразумевает «взаимосвязь этого символа с подобным набором откликов как в самом индивиде, так и в другом». И далее: «Символ имеет тенденцию вызывать в индивиде некую группу реакций, подобных тем, которые он вызывает в другом». В итоге то, что подразумевается под самосознанием, констатирует автор, есть пробуждение той группы установок, которую «мы» пробуждаем в «других», особенно если это какой-то важный набор «откликов», которые являются определяющими для членов сообщества [Мид, 1996а, с. 217; 1996б,
-
с. 227]. С Дж. Г. Мидом соглашаются П. Бергер и Т. Лукман, представляющие идентичность как феномен, возникающий из диалектической взаимосвязи индивида и общества [Бергер, Лукман, 1995, с. 281]. Идентичность рассматривается как нечто постоянно изменяющееся, контекстуальное, когда индивидуальные представления о себе и других преобразуются в реальные факты.
Подытоживая обзор наиболее известных трудов по проблемам этнической / этнокультурной идентичности, автор вынуждена согласиться с теми учеными, которые видят сложность исследования проблемы идентичности в том, что выстроенные подходы и концепции пока еще не стали в полной мере результатом эмпирических исследований, а являются скорее плодом размышлений, которые не всегда находят применение [Головнёва, 2018, с. 5–6]. Ведь в исследовании образа жизни народов, важны не только факты, но и восприятие фактов самими людьми, которое формирует их отношения и поведение.
Мид Дж. Азия // Американская социологическая мысль. М.: Изд. Междунар. ун-та бизнеса и управления, 1996б. С. 225–234.
Мид Дж. От жеста к символу // Американская социлогическая мысль. М.: Изд. Междунар. ун-та бизнеса и управления, 1996а. С. 213–221.
Михайлов В. М. К вопросу об эволюции государственно-гражданской идентичности россиян // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. К 70-летию академика В. А. Тишкова. М.: Наука, 2011. С. 115–123.
Морозов И. А. Локальные традиции и меняющиеся идентичности // ЭО. 2015. № 2. С. 5–14.
Переслегин С. Послесловие. О спектроскопии цивилизаций, или Россия на геополитической карте мира // Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Ю. Новикова . М.: АСТ, 2003. С. 579–603.
Попков Ю. В. Глобальный контекст актуализации темы идентичности и ее место в проблемном поле государственной национальной политики // Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 9–17.
Путешествия через сибирскую степь и тайгу к антропологическим концепциям: этноистория Сергея и Елизаветы Широкогоровых: В 2 т. М.: Индрик, 2021. Т. 1. 544 с.
Рикёр П. Повествовательная идентичность // Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: КАМI, 1995. С. 19–20.
Рикёр П. Путь признания. Три очерка. М.: РОССПЭН, 2010. 268 с.
Русские (Этносоциологические очерки). М.: Наука, 1992. 464 с.
Русские. Этносоциологические исследования. М.: Наука, 2011. 190 с.
Русские: этнокультурная идентичность / Отв. ред. и сост. И. В. Власова. М.: ИЭА РАН, 2013. 312 с.
Савченко В. В. Этнокультурная идентичность русских в современной России: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2009. 21 с.
Солдатова Г. У. Этническая идентичность и этнополитическая мобилизация // Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М.: Мысль, 1996. С. 296–355.
Тишков В. А. Этнология и политика. М., 2001. 240 с.
Тишков В. А. Историческая культура и идентичность // Урал. ист. вестник. 2011. № 2 (31). С. 4–16.
Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. М.: РИПОЛ Классик, 2013. 512 с.
Фромм Э. Бегство от свободы / Пер. с англ. А. Лактионова . М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. 284 с.
Фурсова Е. Ф. Основные факторы формирования этнокультурной идентичности (по материалам русских Сибири на рубеже XIX–XX веков) // Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 30–34.
Хантингтон С. Кто мы?: вызовы американской национальной идентичности / Пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 635 с.
Хершак Э., Кумпес Й. Два типа этничности (хорватский и сербский примеры) // ЭО. 1993. № 4. С. 29–39.
Черныш М. Ф. Этнические и общегражданские ценности в сознании россиян // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 101–113.
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. М.: Прогресс, 1996. 344 с.
Connor W. The timelessness of nations. Nations and Nationalism , 2004, vol. 10, no. 1/2, pp. 35– 47.
Sökefeld M. Debating Self, Identity, and Culture in Anthropology. Current Anthropology , 1999, vol. 40, no. 4, pp. 417–447. DOI 10.1086/200042
Shills E. A. Centre and Periphery. In: The Logic of Personal Knowledge: Essays Presented to Michael Polanyo on his Seventieth Birthday. London, Routledge and Kegan Paul, 1961, pp. 117– 130.
Smith A. D. National Identity. London, New York, Penguin Books, 1991, 227 p.
Список литературы Проблемы этнической (этнокультурной) идентичности в научной литературе во второй половине XX - XXI веке (к курсу "Основы культурной антропологии")
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. 288 с.
- Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология. М.: Весь Мир, 2004. 216 с.
- Арутюнян Ю. В. Социально-культурное развитие и национальное самосознание // Социологические исследования. 1990. № 7. С. 42-49.
- Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий. М.: Новое издательство, 2006. С. 9-48.
- Белик А. А. Культурная (социальная) антропология: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2009. 540 с.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.
- Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. 412 с.
- Вяткин Б. А., Хотинец В. Ю. Интегральная индивидуальность и этнические особенности человека. Пермь: ПГПУ, 1997. 65 с.
- Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. 560 с.
- Головнёва Е. В. Конструирование региональной идентичности в современной культуре (на материале сибирского региона): Дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2018. 339 с.
- Границы, культуры и идентичности. Этнология восточнославянского пограничья / Ред.-сост. М. Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2012. 443 с.
- Губогло М. Н. Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки. М.: Наука, 2003. 764 с.
- Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера земли. М.: Мишель и Ко, ДИ-КАРТ, 1993. 503 с.
- Дробижева Л. М. Государственная и этническая идентичность: выбор и подвижность // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 10-29.
- Ерохина Е. А. Стратегии и формы этнической идентификации большинства и меньшинства в межэтнических сообществах Сибири // Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 41-47.
- Зинченко Ю. П., Шайгерова Л. А. Методологические проблемы изучения этнокультурной идентичности: в поисках продуктивного подхода // Этнокультурная идентичность как фактор социальной стабильности в современной России. М.: Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. С. 23-44.
- Козлов В. И. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса // СЭ. 1974. № 2. С. 79-92.
- Костина А. В. Процедуры идентификации: обусловленность доминирующим типом личности // Кто мы? Проблема формирования национально-культурной идентичности в современной России. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011б. С. 58-60.
- Костина А. В. Этничность как основание идентификации // Кто мы? Проблема формирования национально-культурной идентичности в современной России. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011а. С. 22-33.
- Крылов М. П. Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф, 2010. 240 с.
- Кто мы? Проблема формирования национально-культурной идентичности в современной России: Коллективная монография / Отв. ред. А. В. Костина. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. 311 с.
- Лурье С. Историческая этнология. М.: Аспект Пресс, 1997. 446 с.
- Малахов В. С. Новое в междисциплинарных исследованиях // Общественные науки и современность. 2002. № 5. С. 131-140.
- Малыгина И. В. Грани и границы этнокультурной идентичности в современном мире // Проблемы формирования национально-культурной идентичности в современной России. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. С. 3-13.
- Мид Дж. Азия // Американская социологическая мысль. М.: Изд. Междунар. ун-та бизнеса и управления, 1996б. С. 225-234.
- Мид Дж. От жеста к символу // Американская социлогическая мысль. М.: Изд. Междунар. ун-та бизнеса и управления, 1996а. С. 213-221.
- Михайлов В. М. К вопросу об эволюции государственно-гражданской идентичности россиян // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. К 70-летию академика В. А. Тишкова. М.: Наука, 2011. С. 115-123.
- Морозов И. А. Локальные традиции и меняющиеся идентичности // ЭО. 2015. № 2. С. 5-14.
- Переслегин С. Послесловие. О спектроскопии цивилизаций, или Россия на геополитической карте мира // Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Ю. Новикова. М.: АСТ, 2003. С. 579-603.
- Попков Ю. В. Глобальный контекст актуализации темы идентичности и ее место в проблемном поле государственной национальной политики // Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 9-17.
- Путешествия через сибирскую степь и тайгу к антропологическим концепциям: этноистория Сергея и Елизаветы Широкогоровых: В 2 т. М.: Индрик, 2021. Т. 1. 544 с.
- Рикёр П. Повествовательная идентичность // Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: КАМI, 1995. С. 19-20.
- Рикёр П. Путь признания. Три очерка. М.: РОССПЭН, 2010. 268 с.
- Русские (Этносоциологические очерки). М.: Наука, 1992. 464 с.
- Русские. Этносоциологические исследования. М.: Наука, 2011. 190 с.
- Русские: этнокультурная идентичность / Отв. ред. и сост. И. В. Власова. М.: ИЭА РАН, 2013. 312 с.
- Савченко В. В. Этнокультурная идентичность русских в современной России: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2009. 21 с.
- Солдатова Г. У. Этническая идентичность и этнополитическая мобилизация // Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М.: Мысль, 1996. С. 296-355.
- Тишков В. А. Этнология и политика. М., 2001. 240 с.
- Тишков В. А. Историческая культура и идентичность // Урал. ист. вестник. 2011. № 2 (31). С. 4-16.
- Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. М.: РИПОЛ Классик, 2013. 512 с.
- Фромм Э. Бегство от свободы / Пер. с англ. А. Лактионова. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. 284 с.
- Фурсова Е. Ф. Основные факторы формирования этнокультурной идентичности (по материалам русских Сибири на рубеже XIX-XX веков) // Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 30-34.
- Хантингтон С. Кто мы?: вызовы американской национальной идентичности / Пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 635 с.
- Хершак Э., Кумпес Й. Два типа этничности (хорватский и сербский примеры) // ЭО. 1993. № 4. С. 29-39.
- Черныш М. Ф. Этнические и общегражданские ценности в сознании россиян // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 101-113.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. М.: Прогресс, 1996. 344 с.
- Connor W. The timelessness of nations. Nations and Nationalism, 2004, vol. 10, no. 1/2, pp. 35-47.
- Sökefeld M. Debating Self, Identity, and Culture in Anthropology. Current Anthropology, 1999, vol. 40, no. 4, pp. 417-447. https://doi.org/10.1086/200042
- Shills E. A. Centre and Periphery. In: The Logic of Personal Knowledge: Essays Presented to Michael Polanyo on his Seventieth Birthday. London, Routledge and Kegan Paul, 1961, pp. 117-130.
- Smith A. D. National Identity. London, New York, Penguin Books, 1991, 227 p.