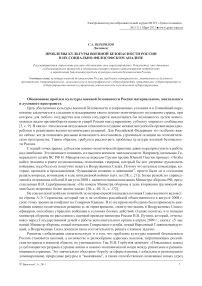Проблемы культуры военной безопасности России в их социально-философском анализе
Автор: Вершилов Сергей Анатольевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается стремление россиян обезопасить свое мироустройство. Поясняется, что динамика глобализационных процессов и обстановка внутри страны актуализируют потребность в определении (уточнении) проблем культуры военной безопасности России.
Культура военной безопасности России, куmilitary safety culture in Russia, ментального и духовного пространств, территориальное, экономическое и демографическое субпространства, нравственное субпространство и субпространство военного управления, идеологическое и религиозное субпространства, проблемы материального
Короткий адрес: https://sciup.org/14821615
IDR: 14821615
Текст научной статьи Проблемы культуры военной безопасности России в их социально-философском анализе
Цель обеспечения культуры военной безопасности в современных условиях и в ближайшей перспективе заключается в создании и поддержании такого военно-политического положения страны, при котором для любого государства или союза государств исключалась бы возможность путем всевозможных видов противоборств нанести ущерб России как суверенному субъекту мирового сообщества [3, с. 9]. В связи с этим весьма актуальным становится создание механизма (способа организации) разработки и реализации военно-политических решений. Для Российской Федерации это особенно важно сейчас, когда появилась реальная возможность восстановить утраченные позиции на геополитическом пространстве. Таким образом, требуется рассмотреть проблемы культуры военной безопасности России.
С нашей точки зрения, субъектам военно-политической практики давно пора приступить к работе над ошибками. Это начинают понимать и в высшем военном эшелоне власти. Например, начальник Генерального штаба ВС РФ Н. Макаров после агрессии Грузии против Южной Осетии признал: «Чтобы найти человека в ранге подполковника, полковника, генерала, который бы мог уверенно руководить войсками, надо было их поштучно искать в Вооруженных Силах. Потому что штатные командиры, которые, просидев и прокомандовав “бумажными полками и дивизиями”, просто были не в состоянии решать вопросы, возникшие в ходе пятидневной войны» (цит. по [38, с. 21]). Более резкой, но справедливой в отношении событий 8 августа 2008 г. является оценка поведения Министра обороны РФ, представленная В.В. Серебрянниковым: «На поиски Министра обороны в день вторжения грузинской армии было потрачено более десяти часов» [30, с. 40; 31, с. 172].
Не совсем понятной (или понятной, но неприемлемой) оказалась позиция Главы военного ведомства страны А.Э. Сердюкова, который так и не сообщил российской общественности в августе 2008 г. свою точку зрения на конфликт на Северном Кавказе. В то же время необходимо было принимать важнейшее военно-политическое решение и, не теряя времени, «поштучно искать в Вооруженных Силах» офицеров, способных управлять войсками в условиях боевых действий. Однако понятно, что позиция министра обороны не расходится с оценкой премьер-министра России В.В. Путина, который, отчитываясь перед Государственной думой о работе исполнительного органа в апреле 2009 г., сказал: «У нас новый Министр обороны, новый начальник Генерального штаба, новый Верховный Главнокомандующий, а Вооруженные Силы доказали свою состоятельность решать сложные задачи».
Развитие глобализации свидетельствует и о том, что проблемы культуры военной безопасности России становятся весомей, а количество и разнообразие адресных вызовов, затрагивающих российские интересы в военной области, не уменьшаются. Так, В.Н. Горбунов замечает: «Повысились темпы углубляющегося разрыва в уровне жизни и военно-экономической мощи между развитыми и развивающимися странами. Это значительно обострило борьбу за сферы влияния, глобальное и региональное доминирование, природные ресурсы и “выживание”, а также способствовало появлению новых угроз военной безопасности для мирового сообщества в целом, и России, в частности» [5, с. 2]. Такая картина, по нашему суждению, с непререкаемой необходимостью требует быстрого изменения способа организации культуры военной безопасности как непременного условия возрождения Российской Федерации в XXI в. Поскольку культура военной безопасности нуждается в кардинальном обновлении, актуализируется потребность в выявлении ее проблем, порождающих деструктивные следствия. По нашей оценке, проблемы культуры военной безопасности России необходимо структурировать, хотя и достаточно условно, по нескольким группам: материального, ментального и духовного пространств. Правомерность такого подхода к выделению проблем исследуемого социального явления заключается в следующем.
-
1. Культура военной безопасности России опирается на политические и концептуальные установки государства, региональных и планетарных институтов по вопросам обеспечения безопасности и синтезирует ряд субпространств: территориальное, экономическое, демографическое, нравственное, управленческое, идеологическое, духовное. В целом вышеназванные компоненты можно свести к трем основным пространствам – материальному, ментальному и духовному.
-
2. Проблемы культуры военной безопасности связаны определенными отношениями координационного характера, поскольку в основе и одних, и других лежат: а) необходимость признания человека главной культурной ценностью; б) незыблемость территориальной целостности государства и сохранение его суверенитета; в) отстаивание защиты достоинства личности; г) реализация прав человека на свободное и универсальное проявление своих способностей; д) утверждение в обществе единства и добра. Все это, хотя и в разной степени, относится или к материальному, или к ментальному, или к духовному пространствам.
-
3. Культура военной безопасности является частью военно-политических отношений и следовательно, испытывает воздействие как позитивных, так и негативных процессов, разворачивающихся в эпоху глобализации. Однако существует и обратное влияние, ибо исследуемый феномен функционирует не сам по себе, а в тесном взаимодействии с другими явлениями материального, ментального и духовного порядка, более или менее сложными.
-
4. Одним из основных субъектов культуры военной безопасности является человек, что позволяет рассмотреть ее проблемы в гуманистическом измерении, наполнить ценностным смыслом теорию и практику безопасности.
-
5. Развитие культуры военной безопасности должно происходить на основе исторической преемственности. Это предполагает, с одной стороны, сохранение положительного опыта прошлого, а с другой – исключение негативного и «чужого». В связи с этим культуру военной безопасности необходимо отнести к открытому явлению, в котором при определенных условиях можно исследовать значимые проблемы материального, ментального и духовного характера.
-
6. Исследуемое социальное явление имеет функциональное назначение – создание нового качества безопасности, которое соответствовало бы периоду глобализации начала XXI в. и ограниченным возможностям (экономическим, политическим, социальным, духовным, военным и др.) российского государства. Достичь нового качества культуры военной безопасности невозможно без решения проблем в материальном, ментальном и духовном пространствах.
Итак, проблемы культуры военной безопасности в содержательном плане необходимо исследовать в материальном, ментальном и духовном пространствах .
Проблемы культуры военной безопасности России материального пространства
Первую группу проблем культуры военной безопасности обозначим проблемами материального пространства . Здесь представлены сложные вопросы, ответы на которые вполне совместимы с социальной общностью всего российского государства, ее безопасным существованием. Материальное пространство состоит из субпространств: территориального, экономического и демографического.
В эпоху глобализации проблемы культуры военной безопасности России, связанные с территориальным субпространством, не теряют значимости и требуют своего разрешения. Достойна уваже- ния позиция Э.Г. Кочетова, который считает, что России необходимо налаживание диалога с нынешними и потенциальными партнерами на выгодных для нее условиях. В то же время ученый замечает: «Милитаризация и “невроз” суверенизации сделали наш мир “дорогим”, неоправданно “затратным”, априори неэффективным» [19, с. 16]. Это так, но и не так. Действительно, никто не спорит с тем, что планета «перегружена» оружием. Но зачем становиться на сторону глобального агрессора, стремящегося подчинить себе все и вся? Именно Запад пропагандирует идею отказа от суверенитета, поскольку нация, лишенная государственности, которая выступает стержнем сопротивляемости, безмолвно пойдет на поводу амбициозных глобалистов по-американски.
Обратимся к недавней истории. Где сейчас Югославия? Оккупированная территория утратила свое название вместе с суверенитетом, «растворившись» в ряде государственных образований, которые подвержены влиянию извне. Ей не оставили даже названия, чтобы не было надежды восстановить эту государственность. Где сейчас Советский Союз? Он преступным путем был ликвидирован как государство, а его территорию также лишили названия. Теперь Россию хотят лишить уже новой, усеченной, государственности. Иначе откуда берутся территориальные претензии: на западе – от стран Балтии, на юге – со стороны Грузии, на востоке – Японии? Кроме того, продолжает попытки к расширению на восток НАТО.
Возвратимся, однако, к суждению Э.Г. Кочетова. Надо ли в такой ситуации жертвовать суверенитетом? Нет, ни в коем случае! История не знает примеров, когда бы государство, раздав (уступив) часть своей территории, становилось более могущественным и сильным, пользующимся авторитетом на мировой арене. Наоборот, отношение претензионистов к нему как ослабленному конкуренту менялось в еще более негативную сторону. Важно заметить, что при наличии прецедента, как правило, возникает и реализуется худший вариант способа организации культуры военной безопасности: война и/или вооруженный конфликт. Это созвучно с изящной оценкой Т.В. Грачевой результата действий заинтересованных субъектов военно-политической практики: «Проявляется наглость и вероломство коллективного агрессора, утратившего всякие моральные устои» [6, с. 94]. Под стать правомерной позиции Т.В. Грачевой и мысль В.В. Серебрянникова: «Если Россия не освоит искусство предотвращать войны, то впереди нас ждет нарастание военных бедствий» [31, с. 165].
Не будем, однако, плыть в фарватере пессимизма. Не все зависит в ближайшие десятилетия от «вероломства коллективного агрессора» и «наглости» стран «золотого миллиарда». Не все! Есть и другие основные субъекты военно-политического олимпа, для которых территориальная целостность, суверенитет были и остаются одной из целей культуры военной безопасности. Не последнее место в этом строю по праву принадлежит России, нашей стране, народу, власти, которые уже не столько терпят поражения, идут на попятную, сколько концентрируются. Именно поэтому эффективная культура военной безопасности на планете реальна и осуществится только с равноправной Россией как игроком военно-политической практики. Показательным в этом смысле является суждение Е.М. Примакова: «… лишь военно-политической близорукостью можно объяснить готовность списать Россию из числа великих держав, недооценивать ее потенциал, динамику, перспективы развития» [29, с. 6].
Следующими проблемами, не позволяющими реализовать самодостаточность культуры военной безопасности, являются неудовлетворительные темпы экономического развития российского государства и полное (или почти полное) отсутствие динамики его изменения в лучшую сторону. Это еще одно субпространство – экономическое – в первой группе проблем культуры военной безопасности России, выделенной нами. Обратимся к более детальному рассмотрению вопроса, начав анализ с работы Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва», в которой содержится энциклопедия экономической мысли, обобщение наиболее ценного из трудов ученых-экономистов разных стран по проблематике перемен, охвативших мировую цивилизацию в XXI в. Глобальный взгляд на мир и на Россию как его часть породило видение фундаментальных основ стратегии инновационного прорыва. Вместе с тем, авторы труда не посчитали необходимым рассмотреть (или хотя бы фрагментарно представить) влияние экономического состояния России на оборонную сферу. Ско- рее всего такая задача перед ними и не стояла. Однако вызывает сомнение и располагает к дискуссии одна оценка, представленная Б.Н. Кузыком и Ю.В. Яковцом: «Переходу России от спада к экономическому росту способствовало укрепление социально-политической стабильности и государственной власти, что создало больше уверенности при вложениях капитала в основные фонды, уменьшило риски, вызванные политической нестабильностью» [20, с. 85 – 86]. По нашей мысли, Россия сосредоточивается, а в период социально-политической нестабильности это сделать трудно, почти невозможно. Но необходимо! Важно, чтобы концентрация усилий не прошла даром. В связи с этим сочтем своевременным суждение-предупреждение В.И. Жукова: «Для России самое главное – не упустить время. Иначе ждать, когда достойная жизнь, Родина и Россия “встретятся” в одном месте, придется долго» [10, с. 10]. Поэтому не станем выдавать желаемое за действительное. Тем более что необходимо обратить внимание на один важный момент. Еще остались противники укрепления роли государства в российской экономике. Многие из них связаны с Западом, откуда и черпают идеи, – это псевдолибералы. Они, как правило, уже не выступают с открытым забралом против экономической роли государства, но утверждают, что оно занимает слишком много места в российском рыночном хозяйстве. Наличие исследований о том, к чему либеральные демократы привели экономику России за последние десятилетия, освобождает нас от демонстрации их негативной, а порой преступной деятельности, в том числе и в военной области. Последствия не заставили себя долго ждать. Согласно Э.Г. Кочетову, «вялость и инфантильность наших действий на хозяйственной арене (внутри и вне страны) привели к тому, что глобальные игроки ведут негласный, скрытый экономический передел мира фактически без России» [19, с. 7]. Признаем, что времени у страны на сосредоточение и концентрацию усилий по «приобретению билета на экономический поезд» не осталось или осталось, но мало! В такой ситуации проблемы экономического состояния государства негативно сказываются на развитии отечественной культуры военной безопасности. По нашей оценке, отсутствие новейших систем вооружений не сможет придать армии желаемого «инновационного» облика и компенсировать отставание в этой жизненно необходимой сфере военной деятельности. Словом, объявленная военно-политическим руководством и реализуемая в настоящее время военная реформа не будет завершена к означенному сроку (1 января 2012 г.) с необходимым качеством, поскольку невозможно создать «инновационную» армию без «инновационной» экономики.
Самым уязвимым субпространством в первой группе проблем культуры военной безопасности России выступает демографический потенциал государства. Нет народа – нет государства, болен народ – нет здорового общества, государственности. Именно поэтому сохранение государственности есть сбережение народа, способного производить активную трудовую деятельность, нести бремя защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Понимающая свою ответственность власть печется о народе, его здоровье и благе. Народ, чувствуя эту заботу, понимает, что государство является его надежной защитой и без него он окажется незащищенным, поэтому старается всячески укрепить его и готов нести жертвы ради его обороны, своих близких, страны и ради будущих поколений. Все это – в идеале, применительно к абстрактному государству и к не менее абстрактной культуре военной безопасности. А в действительности? В современных условиях военно-политические субъекты России обозначили (задокументировали!) критериальные показатели по реализации своего предназначения в проявлении патриархальной заботы о населении в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (далее Стратегия) не в должной степени. Конкретизируем. Например, в последнем (шестом) разделе Стратегии не учтены (проигнорированы!) существенные, по нашей оценке, характеристики состояния национальной и военной безопасности. Среди них отсутствуют важные уровни смертности, рождаемости и продолжительности жизни; безопасности населения [34, с. 299]. Как к этому относиться? Ответ на животрепещущий вопрос находим в научном труде М.Г. Ласкина. Исследователь демографических проблем честно констатирует: «Если смертность высока, а рождаемость низка, то обществу грозит вымирание – это показатель неблагополучия. Таким же сигналом тревоги может служить слишком высокая рождаемость, если в этом случае возникает де- фицит продовольствия. Показатель безопасности граждан включает в себя уровень преступности в обществе, количество авто- и авиакатастроф, аварий на предприятиях, транспорте. Каждый из них в отдельности может показаться случайностью, но взятые вместе они сигнализируют о неумении власти предвидеть и предотвратить будущую опасность» [21, с. 274]. По нашей мысли, суждение М.Г. Ласкина не требует подробного разъяснения и углубленного анализа – все предельно ясно.
Добавим, что нынешнее демографическое состояние российской нации оказывает деструктивное воздействие на развитие культуры военной безопасности: снижается уровень мобилизационной готовности Вооруженных Сил России – призывать на воинскую службу некого, поскольку престиж военной профессии значительно снижен, конкурс в военные училища отсутствует. Словом, военно-политическая власть не в состоянии позитивно влиять на характеристики, не прописанные в шестом разделе Стратегии, но отмеченные нами как существенные. Отсюда и нежелание (боязнь) обличенных высокими полномочиями субъектов практики их афиширования – однажды народ может по достоинству оценить подобную безответственную деятельность.
По нашему, теперь уже обоснованному суждению, позитивных изменений в жизни россиян, в развитии культуры военной безопасности Российской Федерации после исчезновения СССР с политической карты мира не произошло. Так, М.Г. Делягин замечает, что «первопричина “главной беды” России в ограниченности сознания тех, кто считает созданную систему переработки населения страны в швейцарские банки и суперяхты нормальной, правильной и справедливой» [7, с. 5]. Действительно, для здравомыслящего человека это особенно ясно в условиях складывающейся военно-политической обстановки в эпоху глобализации. Процессы, развернувшиеся при этом, заставляют существующие центры силы проявлять военно-политическую активность по сбережению своих народов, акцентировать внимание на значении далеко не мирных средств в урегулировании всевозможных конфликтов, происходящих на планете. Обидно, но подобную «активность» два последних десятилетия не проявляет военно-политическое руководство России. Наоборот, по мысли Л.Г. Фишмана, «…элиты начали мало-помалу отбирать у масс завоеванное ими в эпоху, когда эти массы были нужны государству и элите как военная сила» [39, с. 123]. Словом, либеральные идеи, ценности, привнесенные в Россию Западом, находятся в действии! Иначе, чем объяснить заявление заместителя начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ Т.А. Фральцовой журналистам во время видеомоста «Москва – Оренбург» 30 августа 2010 г.: «Минобороны прекращает набор курсантов в военные вузы на два (2010 и 2011) года» [24]?
Проблемы культуры военной безопасности современной России в зеркале ментального пространства
Вторая группа вопросов культуры военной безопасности России, требующая разрешения, включает в себя проблемы ментального пространства . По нашей мысли, проблемы данной группы необходимо исследовать, как минимум, в двух ипостасях: нравственном субпространстве и субпространстве военного управления.
Заметим, государство можно уничтожить не только насильственными действиями. Таких способов много. Назовем некоторые из них: вооруженный конфликт; революции всевозможных «цветов»; перепрограммирование сознания военно-политических субъектов на антигосударственный курс; смена режима и установление марионеточного правительства (управляемая демократия), которое, выполняя «рекомендации» агрессора, само уничтожит государственность. Согласно Т.В. Грачевой, «в целом уничтожение государства сводится к воздействию на власть либо силовыми методами (война, вооруженный конфликт, революция, физическое устранение военно-политической элиты), либо не силовыми – путем коррумпирования власти или ее формирования из уже коррумпированных лиц. В любом случае здесь включается внешняя сила, действующая как агрессор» [6, с. 138]. Терминологически нечто иное, но сущность та же, что была представлена нами.
Итак, нравственное субпространство. Актуальная потребность в решении нравственных проблем культуры военной безопасности страны была бесспорна и до начала 1990-х гг. Развал СССР еще отчетли- вее обнажил их сложность и глубину, что заставило главных субъектов политики «предпринять» практические шаги по укреплению обороны страны. Разрекламированная военно-политической элитой так называемая военная реформа 1992 – 1996 гг. была фактически провалена, поскольку представляла собой суетливые действия по косметическому преобразованию силовых структур в угоду своим сиюминутным интересам, популизму и в конечном счете желанию ничего не менять. Последнее привело к тому, что и следующие года не принесли, по общему признанию рационально мыслящих исследователей, политиков и военных, положительных результатов в развитии культуры военной безопасности, поскольку военнополитические субъекты утратилинравственный (пророссийский!)стержень правления.Так, посуждению В.И. Фартышева, «после некоторого видоизменения Вооруженных Сил страны говорить о повышении обороноспособности и возвращении авторитета армии пока не приходится. Охрана сверхпрозрачных границ РФ, особенно воздушных рубежей на Дальнем Востоке и Севере, остается неудовлетворительной» [37, с. 475]. В такой ситуации, безусловно, любой шаг по ликвидации «дорогостоящего и затратного монстра» будет одобрен и оправдан, что, собственно говоря, продолжается и сегодня. Иными словами, в развитии культуры военной безопасности России исчезла сохраняющая нацию защитная оболочка в виде нравственных ценностей.
Практические действия военно-политического руководства России позволяют констатировать тот факт, что под флагом реформирования происходило (и происходит) некомпетентное, а порой и вредное вмешательство, влекущее за собой разрушение оборонного потенциала государства. К сожалению, для сегодняшнего дня характерно углубляющееся противоречие в понимании проблем культуры военной безопасности среди представителей различных ветвей власти. Кроме того, просматривается явное отсутствие серьезной интеграции между властью и населением страны. Дефекты практической реализации культуры военной безопасности объясняются не только социальными, но и нравственными качествами элиты. В нынешних условиях, по мнению А.В. Супруна, «уровень нравственной расхала-женности, правовой безнаказанности российских политиков, представителей силовых структур, как и прежде, очень высок» [35, с. 16].
Вместе с тем, кадровая чехарда (так официально называется ротация) и массовые увольнения в офицерской среде продолжаются; очередной набор сержантов контрактной службы, материально не обеспеченный, не оправдал себя. Сильно упали престиж военной службы, социально-экономический и психологический статус профессиональных военных. Чем-то привычным стало для власть предержащих неудовлетворительное положение дел в боевой подготовке войск, решении социальных проблем военнослужащих и членов их семей [14, с. 40 – 41].
В современных условиях российская военно-политическая элита делает робкие шаги к изменению сложившейся ситуации или по крайней мере (что ближе к истине) позиционирует себя в отношении культуры военной безопасности. По нашему мнению, утверждения о потенциальных сдвигах в военной области носят явно декларативный характер. Очевидно устойчивое желание субъектов военно-политической практики выдать нереализованную возможность в развитии культуры военной безопасности за действительность. Зачем? С одной стороны, это объясняется низкими нравственными качествами элиты, с другой – отсутствием у нее воли к сохранению приоритета государственных ценностей над ценностями глобального сообщества. Можно ли считать такой ответ исчерпывающим? Нет! Ибо есть третий немаловажный аспект: воля у субъектов практики все-таки есть, но иная, навязанная извне. В соответствии с ней преимущество отдается ценностям глобального сообщества в ущерб российским! А. Панарин справедливо замечает: «Современная российская элита (в том числе военно-политическая. – С.В.) утратила черты национальной. Мысля себя в рамках глобального социума, она перестает преследовать интересы конкретно своего народа» [27, с. 5]. Однако дополним: глобальность военно-политических субъектов России проявляется прежде всего в их отказе от национальной идентичности и защиты национальных интересов и ценностей. Кроме того, не разделяя тяготы своего народа в период кризиса культуры военной безопасности, элита все больше отдаляется от него. Не чувствуя никаких обязательств перед нацией и снижая уровень собственной ответственности за оборону стра- ны, субъекты приобщаются к глобальному сообществу. Повторимся, в пользу коллективного агрессора и в ущерб России!
При отсутствии самодостаточности культуры военной безопасности перед ней стоят серьезные задачи. Понимает ли это отечественная военная и политическая элита, насколько осознает свою ответственность за безопасность страны? Обратимся к одному из основополагающих военных документов – Военной доктрине Российской Федерации [4] (далее Военная доктрина). На этапе разработки данный документ не был представлен в средствах массовой информации для обсуждения в военной и научной среде. К чему такая повышенная секретность? По нашей мысли, это нежелание работать с предложениями, замечаниями и рекомендациями, которые наверняка появились бы после ознакомления специалистов с проектом Военной доктрины. Другой вопрос, в каком объеме они были бы реализованы. Этот пример является ответом на вопрос академика Е.П. Велихова: «Насколько активно гражданское общество участвует в выработке и принятии стратегических решений, постановке задач и в реализации их на практике?» [2, с. 38]. Заметим, что оно участвует ровно столько, насколько ему позволяет нынешняя военно-политическая элита. Словом, культура военной безопасности в действии, но со знаком «минус». К некоторым конкретным положениям Военной доктрины мы еще вернемся.
С целью минимизации всевозможных проявлений деструктивного отношения к Российской Федерации следует актуализировать деятельность по налаживанию функционирования всех элементов культуры военной безопасности. Если решение этой задачи подчинено совершенствованию обороны страны, то призывами и модными лозунгами обойтись нельзя. При этом важно выявить глубинные нравственные причины, наиболее серьезно замедляющие развитие культуры военной безопасности, поскольку без их ликвидации вся последующая военная практика по реформированию окажется в очередной раз несостоятельной. Так, с точки зрения А.И. Николаева, «необходима обстоятельная, кропотливая, интеллектуальная и организаторская работа на всех уровнях государства и общества» [26, с. 363]. Несмотря на то, что предупреждение военного специалиста прозвучало в конце прошлого столетия, оно остается актуальным и сегодня.
При исследовании второго субпространства второй группы проблем культуры военной безопасности необходимо снова обратиться к содержанию Военной доктрины. Парадоксально, но вопросы военного управления в данном документе размыты, не в полной мере отмечены в его содержательной части. Так, А.С. Скок в зависимости от функционального предназначения рассматривает три вида военно-управленческой деятельности: аналитическую (конструктивную), организационно-административную и информационно-техническую [33, с. 97]. Второй и третий виды управления, пусть и фрагментарно, обозначены в Военной доктрине, а первый отсутствует полностью. Однако именно в конструктивной части должна указываться цель управленческой деятельности (в нашем случае – в военной области)! Тем не менее, это посчитали необязательным. Есть и другие аргументы. Обратимся к научной статье О.А. Белькова «Военная политика и стратегия как высший уровень управления оборонной сферой страны» [1, с. 283 – 293]. Ее название говорит о большом значении, которое вкладывает исследователь в военное управление. Однако он допустил досадную неточность, заметив, что «словосочетание “военное управление” давно закрепилось в научном и политическом языке… Широко оно употребляется и в современных официальных документах, например, в Военной доктрине…» (Там же, с. 283). Мы согласны только с первым суждением О.А. Белькова, поскольку оно соответствует действительности. Что касается второго, ни в предыдущей Военной доктрине 2000 г., ни тем более в действующей с 5 февраля 2010 г. понятие «военное управление» не раскрывается. Кроме того, оно даже не упоминается! Отражает ли вышесказанное ту «значимость» военного управления, которую придает ему военно-политическое руководство России?
Однако подчеркнем, что О.А. Бельков в своей статье детально представил несколько уровней, или видов, форм военного управления: «1. Военная политика… 2. Управление войсками… 3. Организация повседневной жизнедеятельности воинских коллективов… 4. Морально-психологическое обеспечение оборонной (военной) деятельности» (Там же, с. 285 – 286). В Военной доктрине представлен только первый уровень военного управления: третий раздел называется «Военная политика». Остальные уровни, к сожалению, оказались вне поля зрения разработчиков важнейшего для России военного документа. С таким подходом нельзя мириться, т.к. это опасно и недопустимо. По нашей оценке, многообразие и сложность управленческих вопросов в оборонной сфере актуализирует «переплетение» функционального предназначения военных и гражданских специалистов. В военном управлении противопоказаны как узковедомственная изолированность, претензии на исключительность и непогрешимость которой маскируют консерватизм, так и некомпетентность малосведущих в военном деле субъектов, выступающих адептами сомнительных нововведений. По мысли А.А. Керсновского, высказанной еще в первой половине прошлого столетия, «…необходимо как можно больше подходящих людей на подходящих местах и как можно меньше дилетантов при полном исключении импровизации» (цит. по [9, с. 175]). Этот призыв очень актуален для развития культуры военной безопасности России периода глобализации начала XXI в.: именно либеральная идея способствует процветанию того негативного подхода к военному управлению, суть которого была представлена выше.
Кроме того, нельзя допускать, чтобы предметом политических дискуссий (а тем более конфликтов) оказывались профессиональные вопросы, находящиеся в компетенции военного руководства. Согласно С.Л. Печурову, «обычно конфликты во взаимоотношениях гражданских и военных ведут лишь к “трепке нервов” одной и другой стороны» [28, с. 38]. К сожалению, именно это и происходит. Неслучайно А.А. Кокошин заметил начавшую превалировать на рубеже XX – XXI вв. тенденцию ко все большему вмешательству политических руководителей в те сферы, которые должны быть, по логике, доверены компетентным военным профессионалам [15, с. 38]. Заметим, тройка «премьер-министр Правительства РФ – министр обороны РФ – начальник Генерального штаба ВС РФ» в настоящее время не вселяет уверенности в исправлении в ближайшей перспективе кризисной ситуации, сложившейся в развитии культуры военной безопасности России. Повторимся: первый из вышеназванных субъектов «не имеет претензий ко второму и третьему»; второго в начале грузинской агрессии в августе 2008 г. не могли найти более десяти часов; третий в это время «ломает голову над тем, где найти компетентных военных управленцев» для выполнения боевой задачи.
Важно, чтобы разработка и реализация решений, касающихся развития культуры военной безопасности, выступали итогом равноправного диалога политиков и военных, гражданской и армейской общественности. Согласимся с мыслью П.Т. Коробейникова: «В государстве, в котором претворяется в жизнь дальновидная политика, с необходимостью должна функционировать система, в которой проводится подготовка гражданской и военной элиты к управлению военными действиями народа в особых случаях» [18, с. 191]. Добавим, при возникновении вооруженного конфликта подобная система позволяет в сжатые сроки достигать консенсуса между различными ветвями власти, а в мирное время открывает возможности для «погашения» споров и согласования законов, относящихся к компетенции субъектов культуры военной безопасности страны.
Невысокие темпы развития российской армии по сравнению с вооруженными структурами ряда потенциальных и реальных противников в военно-технических вопросах были характерны для некоторых эпизодов отечественной военной истории. Нет ничего удивительного в том, что именно в эти периоды военно-политическое руководство российского (и советского) государства испытывало трудности в решении как наступательных, так и оборонительных задач. Особенно явно это проявилось во время боевых действий Крымской, русско-японской, Первой мировой и финской (о которой мало говорят и пишут) войн, в некоторой степени – на начальном этапе Великой Отечественной войны. При этом упущения в вопросах военного управления были вызваны не столько отставанием в сфере научной деятельности, сколько не всегда достаточным уровнем компетентности руководства. Так, по мнению А.И. Калистратова, «сражения Крымской войны с особой резкостью выявили … опасно нарастающее несоответствие между высокими боевыми качествами рядового состава русской армии и низким профессионализмом ее офицеров и генералов» [13, с. 23].
Трудно подвергнуть сомнению то, что передовые технологии в эпоху глобализации становятся главной ареной конкуренции, а научно-техническая сфера – важнейшим фактором геополитики. Глобализация рынка научных разработок, технологий, высокотехнологичной продукции выводит в международные лидеры новые страны. В этом смысле согласимся с суждением И.Ю. Золотова и Е.З. Ту-жикова, которые утверждают, что «…только государства с мобильным, динамично развивающимся научно-технологическим комплексом могут сохранить свои позиции в этой глобальной гонке» [12, с. 9]. Здесь важно отметить: возможность изменить что-либо в культуре военной безопасности России не представится, если подходить к решаемому вопросу формально, снабжая армию новой техникой, оставляя без внимания вопросы эффективного военного управления. Понимания этого не достает нынешней военно-политической элите. В связи с этим признаем существенной мысль Л.Г. Фишмана: «… получить иллюзию военной безопасности удастся, но до того времени, как в следующий раз “очередная Грузия” подготовится лучше» [38, с. 32]. В этом отношении сочтем основательным и замечание А.А. Кокошина: «Сегодня вопросы совершенствования системы управления вооруженными силами, вернее, коренной их перестройки стоят, как никогда, остро» [16, с. 12]. Действительно, в начале нового столетия несоответствие российского военно-политического руководства своему функциональному предназначению и непрекращающиеся провалы в способе организации культуры военной безопасности остаются устойчивыми негативными тенденциями.
Проблемы культуры военной безопасности современной России в зеркале духовного пространства
Отсюда еще одна, третья, группа проблем культуры военной безопасности, которая касается ее идеологического компонента, отношения религии к вопросам обороны страны. По нашей мысли, данные проблемы относятся к духовному пространству . Идеология и религия выступают здесь субпространствами.
С одной стороны, идеологическое субпространство предстает элементом культуры военной безопасности, способным повлиять на ее развитие, с другой – культуру военной безопасности необходимо принять в качестве актуализации и формализации идеологического уровня, тесно связанного с отношением общества к вопросам обороны страны. По нашему суждению, такой подход к идеологии позволяет воспринимать ее как сознание субъектов, воплощенное в их практических делах и держащее ответ за полученные результаты, что в XXI в. имеет важное значение для исподволь обновляющейся России. Так, в 2007 г. переведена на русский язык и издана работа Ф. Фукуямы «Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие». Отдадим должное исследователю, который в США одним из первых предпринял попытку осмыслить политику, в том числе и военную, проводимую в последние десятилетия неоконсерваторами. Вместе с тем, обратим внимание на следующее высказывание: «Либеральная демократия – один из побочных продуктов процесса модернизации и становится предметом всеобщих устремлений в ходе истории» [40, с. 79 – 80]. Тезис настолько интересный, насколько и спорный. Примечательным в данном случае является словосочетание «всеобщие устремления». Неужели ученый всерьез полагает, что либеральная идея привлекает подавляющее большинство народов, в том числе российский? Эту идею насильно внедряют! Согласно Н.В. Загладину, «экспансия идей, в том числе о “правильном” устройстве, представлений о том, что “прогрессивно”, а что “ретроградно”, носит повсеместный характер» [11, с. 157]. К сожалению, российская действительность в скорости «оглупления» нации не стала исключением. Конкретизируем вышесказанное применительно к культуре военной безопасности России. В эпоху глобализации мировоззренческий элемент культуры военной безопасности России для ряда фигур военно-политического руководства означает стремление извлекать из всего материальную выгоду. Идеологическая направленность таких субъектов практики в определенной степени зиждется на постулатах, утверждающих необходимость удержания власти во что бы то ни стало. По нашей мысли, такое положение дел обусловлено прежде всего наличием серьезных разногласий в мире политики, разделением игроков военно-политической области на действующих в согласии и находящихся по другую сторону баррикад. Не удивительно, что в такой ситуации времени для решения насущных проблем культуры военной безопасности катастрофически не хватает, поэтому их практическая реализация отступает на второстепенный план. Согласимся с оценкой В.В. Серебрянникова: «Качество идеологии во многом зависит от тех, кто ее создает: от идеологов и политиков, военных деятелей, от их эрудиции, опыта, способностей. Либеральные деятели, оказавшиеся в правящих верхах, по своим свойствам не доросли до этого» [32, с. 46].
В рамках третьей группы проблем культуры военной безопасности мы выделили также субпространство религии . Именно здесь должно аккумулироваться, сохраняться и укрепляться духовное здоровье российской нации в вопросах обороны страны. Заметим, что всеобщее влияние мистических религиозных учений и свободных по названию, но не по сути, средств массовой информации во многом подрывает патриотизм россиян. Это стало очевидным за последние два десятилетия, в течение которых в России проводились так называемые «преобразования», в том числе и военные. Что бы ни говорили о российском народе, в своем большинстве он выступает в нравственной ипостаси: различающим добро и зло, не признающим подлость. Россияне не допускают мысли, что военно-политическое руководство России, зарубежные «партнеры» могут беззастенчиво лгать народу: прославлять чуждое и очернять родное. По нашей мысли, как раз Православная Церковь помогает распознавать добро и зло, оставаться нравственно чистыми и патриотично (пророссийски) настроенными людьми, тем самым противостоять глобальной религиозной агрессии. Ю.П. Михайлов замечает: «Если требуется исполнить долг, человек нравственный идет на самопожертвование и проявляет силу духа, какой не найдется у сотни тренированных, но безнравственных атлетов» [25, с. 16]. Этот тезис требует конкретизации. Поговорка «в здоровом теле – здоровый дух», по сути, не совсем верна. Именно здоровьем духа определяется все человеческое, в том числе и физическое, развитие. Понимают это и на Западе, только односторонне – в свою пользу. Так, Дж. Фолвел (один из основателей в США христианского сионизма – веры в то, что государство Израиль является исполнением библейского пророчества о последних временах и потому заслуживает политической, финансовой и религиозной поддержки [6, с. 235]) отметил: «С чувством глубокого беспокойства и сожаления признаем, что в начале нового столетия Православная Церковь в России возрождается. Это необходимо учитывать во внешнеполитической деятельности стран демократии» [41, p. 46]. Подчеркнем, что именно православие сейчас выступает чуть ли не единственной преградой на пути христианского сионизма и других организаций, способствующих установлению глобального мирового порядка. Отсюда и желание духовного агрессора сломить веру россиян, их внутреннюю потребность в сохранении государственности России, столкнуть их с представителями других конфессий. В этом отношении актуальна оценка Т.В. Грачевой: «Стратегия межконфессиональной войны, где Ислам буквально сталкивают с Православием, дополняется стратегией внутриконфессиональной войны, где трансформированный протестантизм используется как оружие пропаганды войны против русского Православия и против Ислама» [6, с. 334]. Солидарен с такой точкой зрения и В.А. Махонин: «Религиозные военные конфликты встречаются чаще всего… Например, они происходили между православными сербами и мусульманами албанцами и косоварами на территории бывшей Югославии в процессе распада (уничтожения! – С.В. ) этого государства, в Судане между арабами-мусульманами и африканцами-христианами, проживающими на юге страны, а также в Нигерии, Индии, на Ближнем Востоке и во многих других районах мира» [23, с. 13 – 14].
Состояние духа россиян важно и для развития отечественной культуры военной безопасности. Можно ли одобрить появившиеся в СМИ весной – летом 2010 г. предложения о переводе срочной военной службы на коммерческие рельсы? Речь идет о том, что представители партии ЛДПР предложили узаконить возможность не служить в вооруженных силах [22]. Однако это противоречит Конституции РФ [17, с. 17]! Так можно прийти и к приватизации армии, которая по организационному управлению будет коммерческой, а по составу – рабоче-крестьянской. Получается, что такие «слуги народа» в Государственной Думе РФ спокойно выполняют заказ американо-протестантских агрессоров. Здесь будут уместны слова А.И. Дырина: «На разрушение сознания, на слом духовного (да и физического) здоровья наших людей и, прежде всего молодых, в современной России работает очень многое. К со- жалению, но именно – работает и на рационально-волевом, но, прежде всего – на эмоционально-чувственном уровне» [8, с. 499].
В очередной раз обратимся к современной (ныне действующей) Военной доктрине. Мир меняется, и на это указывает данный документ. Но почему не меняется методология анализа? По нашему мнению, вопросы укрепления духовного здоровья нации в документе не отражены. Ко всему прочему, при ознакомлении с внешними и внутренними военными опасностями, прописанными во втором разделе Военной доктрины, становится понятно, что, по оценке разработчиков документа, духовному здоровью военнослужащих ничто не угрожает. Видимо, отсутствует такая опасность и по оценке руководящего лица государства, утвердившего важнейший военный документ Указом от 5 февраля 2010 г. Справедливости ради, но не в заслугу разработчикам исследуемого документа, необходимо заметить, что последнее предложение в Военной доктрине оставляет некоторую надежду на исправление недостатков и восполнение упущений, пробелов: «Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера военных опасностей и угроз, задач в области обеспечения военной безопасности и обороны, а также условий развития Российской Федерации» [4]. Мы считаем, что в Военную доктрину необходимо включить статью (положение) о морально-психологическом обеспечении оборонной (военной) деятельности . Управление вообще осуществляется путем воздействия на условия жизни людей и их ценностные ориентации. Военно-патриотическое сознание масс, понимание необходимости и важности защиты Отечества, психологическая устойчивость личного состава, его моральная готовность к ведению боевых действий являются неотъемлемой частью и необходимым условием боеспособности войск. В этом смысле морально-психологическое обеспечение выступает одним из основных элементов управления войсками.
Главное в культуре военной безопасности – человек, его дух, нравственные качества. В связи с этим у Военной доктрины должно быть два истока: идейно-духовный – «постоянный», который нельзя подвергать эрозии со стороны чуждого влияния, и прикладной – подлежащий замене в зависимости от состояния материального фактора. Как считает А.И. Дырин, «идейно-духовное начало нельзя нигде заимствовать. Оно национально-самобытно и разрабатывается самостоятельно. Что же касается начала практического, то оно более интернационально, здесь больше общего, единого, сходного» [9, с. 190]. Стоит придать новое звучание словам «за веру, Царя и Отечество» – пусть не за царя, а президента, чьи честь, достоинство и деяния будут положительно (легитимно) восприниматься и оцениваться значительной частью российских граждан, а значит и армии.
Итак, следует считать недопустимым пропаганду насилия, вражды и ненависти, национальной и религиозной розни. Военно-политическому руководству России необходимо серьезно заняться этим, поскольку проблемы отечественной культуры военной безопасности по сохранению и укреплению духовного здоровья нации затрудняются широкомасштабной атакой глобального агрессора. Вызов подобной интервенции не воспринимается властями должным образом. Подчеркнем, нередко оказывается содействие. Руководство страны не выделяется ни государственным подходом, ни патриотической направленностью. Зато ярко проявляется бездумное восприятие всего чужого, идущего с Запада.
Внесем ясность: решение каждой из рассмотренных проблем культуры военной безопасности требует безотлагательности. Так, решение первой группы проблем при отсутствии адекватного отношения к проблемам культуры военной безопасности ментального характера не скажется положительно на обороноспособности страны. Результативное разрешение внутренних противоречий второй группы проблем культуры военной безопасности не воплотится в жизнь, если будет отсутствовать фундамент, в качестве которого выступают территориальное, экономическое и демографическое субпространства. Вместе с тем, и первая, и вторая группы проблем культуры военной безопасности, вне всякого сомнения, определяются третьей группой, включающей духовное пространство. Согласно Г.Д. Сухарчуку, «человек без веры, без духовной узды, способен на самые бесчеловечные деяния» [36, с. 39].
Таким образом, проблемы культуры военной безопасности находятся на уровнях социального и личностного мировоззрения, а также определяются отношением российского социума к военно-поли- тическим вопросам и оборонным потребностям. Главные проблемы отечественной культуры военной безопасности не в недостатке материальных и финансовых средств, хотя и в них тоже. Заключаются они и не в типичных препятствиях культуре военной безопасности внутреннего свойства и никак не во влиянии на российский социум внешних сил. Недостатки в способе организации культуры военной безопасности России связаны с тем, что российскому народу навязываются сторонние ценности и чужая вера, а военно-политическое руководство этому потворствует. В результате обнаруживаются отсутствие в обществе сплоченности, неадекватное осознание всего комплекса военных вызовов и степени опасности, что и предопределяет низкий уровень культуры военной безопасности. Кроме того, не просматриваются сама цель – эффективная культура военной безопасности, а также желание и политическая воля субъектов практики в ее формировании и достижении.
Таким образом, кризис культуры военной безопасности России оказывает негативное влияние на выявление реальной оценки ситуации и перспектив ее развития. Масштабы проявления этого кризиса обусловлены деградацией культуры, дефицитом духовности, девальвацией ценностей, разрушением фундаментальной, отраслевой и прикладной науки. Экономика и политика (в том числе военная) утратили свое главное качество – нравственность. В связи с этим не уменьшаются возможности в совершении просчетов и ошибок при обсуждении, принятии и реализации военно-политических решений по интересующим вопросам. Без изменения психологии российского общества, наличия надежной идеологической базы, учитывающих не только особенности отечественного менталитета, но и требования эпохи глобализации, Россия так и останется «выздоравливающим» членом международного клуба. Ее будут все также подвергать всякого рода дискриминации, что вряд ли позволит ей занять подобающее место в структурах нового миропорядка. Отсюда следует, что выявление и разрешение проблем культуры военной безопасности России закономерно и актуально.
Список литературы Проблемы культуры военной безопасности России в их социально-философском анализе
- Бельков О.А. Военная политика и стратегия как высший уровень управления оборонной сферой страны//Безопасность Евразии. 2009. № 1.
- Велихов Е.П. Повысить роль общества в решении проблем национальной безопасности страны//Военно-философ. вестн. 2008. № 2.
- Вершилов С.А. Культура военной безопасности России (социально-философский анализ): автореф. дис. канд. философ. наук. М., 1998.
- Военная доктрина Российской Федерации. Утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. № 146//Красная звезда. 16 февр. 2010 г.
- Горбунов В.Н., Богданов С.А. О характере вооруженной борьбы в XXI веке//Военная мысль. 2009. № 3.
- Грачева Т.В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. Рязань: Зер-на, 2009.
- Делягин М.Г. Дураки, дороги и другие беды России. Беседы о главном. М.: Вече, 2010.
- Дырин А.И. Философские исследования и разработки: Избранное. М.: Современные тетради, 2004.
- Дырин А.И., Дырин И.А. Патриотическая идея и военная доктрина для будущей России в литературе русского зарубежья первой половине XX века. М.: Изд-во «Мегапир», 2008.
- Жуков В.И. Мировой кризис: экономика и социология глобальных процессов//СОЦИС. 2010. № 2.
- Загладин Н.В. Кризис цивилизации или гуманитарного знания//Полис. 2010. № 2.
- Золотов И.Ю., Тужиков Е.З. Фундаментальная наука -основа военно-технической и технологической безопасности государства//Военная мысль. 2009. № 1.
- Калистратов А.И. Развитие российского военного искусства во второй половине XIX -начале XX века//Военная мысль. 2009. № 3.
- Каньшин А.Н. Нужны новые подходы к гражданскому контролю сферы обороны и безопасности//Военно-философ. вестн. 2008. № 2.
- Кокошин А.А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, сравнительный анализ, задачи для России. М.: РОССПЭН, 2003.
- Кокошин А.А. Инновационные вооруженные силы и революция в военном деле. М.: ЛЕНАРД, 2009.
- Конституция Российской Федерации. М.: Изд-во Эксмо, 2004. Ст. 59.
- Коробейников П.Т. Государства в кризисных ситуациях эпохи глобализации. Оренбург: ООО «ИНФО», 2007.
- Кочетов Э.Г. Геоэкономика, стратегия России и Президентское послание (К выходу в свет статьи Президента России «Россия вперед!»: свежесть, ясность, убежденность)//Безопасность Евразии. 2009. № 4.
- Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия -2050: стратегия инновационного прорыва. 2-е изд., доп. М.: Экономика, 2005.
- Ласкин М.Г. Демографические проблемы России в эпоху глобализации: состояние и приоритеты развития. СПб.: Изд-во «Литография», 2010.
- ЛДПР предлагает освобождать от службы в армии за миллион рублей//Ведомости. 2010. 7 июн. URL: http://www.vedomosti. ru/newsline/news/1032278/far_zhaluetsya_prokurature_na_zaderzhaniya_vo_vremya_marsha_nesoglasnyh.
- Махонин В.А. Вооруженные конфликты: понятия, классификация, причины возникновения//Военная мысль. 2010. № 8.
- Минобороны прекращает набор курсантов в военные вузы на два года//Ведомости. 2010. 30 авг. URL: http://www. vedomosti.ru/politics/news/1091033/minoborony_prekraschaet_nabor_kursantov_v_voennye_vuzy_na.
- Михайлов Ю.П. Психология мужества. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2010.
- Николаев А.И. Россия на переломе (На переломе. Записки русского генерала). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Современный писатель, 1999.
- Панарин А. Народ без элиты. М.: ЭКСМО, 2006.
- Печуров С.Л. Гражданско-военные отношения в англо-саксонской системе руководства вооруженными силами//Военная мысль. 2008. № 10.
- Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. М.: Рос. газ., 2009.
- Серебрянников В.В. Упущенные возможности предотвращения войны//Свободная мысль. 2009. № 3. С. 40.
- Серебрянников В.В. Как упускалась возможность предотвратить войну//Социально-гуманитарные знания. 2010. № 1.
- Серебрянников В.В. Идеологические посылки Великой Победы//Социально-гуманитарные знания. 2010. № 2.
- Скок А.С. Социальные технологии в системе управления военной организацией. М.: ВУ, 1997.
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537//Безопасность Евразии. 2009. № 2.
- Супрун А.В. Расцвет и упадок российских утопий//Общественные науки. Всероссийский научный журнал. 2010. № 2.
- Сухарчук Г.Д. Восток -Запад: историко-психологический водораздел//Вопр. истории. 1998. № 1.
- Фартышев В.И. Последний шанс Путина (Судьба России в XXI веке). М.: Вече, 2005.
- Фишман Л.Г. Можно ли вернуть армию в общество?//Свободная мысль. 2009. № 3.
- Фишман Л.Г. Демократия, «социальное государство» и война//Полис. 2010. № 1.
- Фукуяма Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие. М., 2007.
- Folvel D. Religion in global peace. N.Y., 2007.