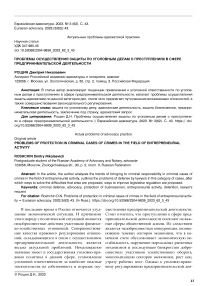Проблемы осуществления защиты по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности
Автор: Рощин Дмитрий Николаевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье автор анализирует тенденции привлечения к уголовной ответственности по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, излагает проблемы осуществления защиты адвокатами по данной категории дел, после чего предлагает пути решения возникающих сложностей, а также совершенствования законодательного регулирования.
Защита по уголовному делу, адвокатская деятельность, защита бизнесменов, предпринимательская деятельность, заключение под стражу, адвокатский запрос
Короткий адрес: https://sciup.org/140300203
IDR: 140300203 | УДК: 347.965.45 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_62_3_43
Текст научной статьи Проблемы осуществления защиты по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности
ществления предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что преступления в сфере предпринимательской деятельности посягают на важные сферы общественной жизни. Их следствием является недобросовестная конкуренция, возникновение теневых секторов экономики, что в конечном счете обусловливает экономическую нестабильность, нарушение нормальных рыночных механизмов и последующее банкротство добросовестных участников хозяйственного оборота, монополизацию секторов экономики, рост цен, утрату рабочих мест. Однако к уголовно-правовому регулированию предпринимательской дея- тельности необходимо подходить весьма аккуратно, поскольку необоснованная криминализация нормальной предпринимательской деятельности негативно влияет на инвестиционный климат в стране, на предпринимательскую активность населения, на благосостояние общества. Недостаточный контроль за деятельностью правоохранительных органов в данной области приводит к тому, что основным мотивом привлечения предпринимателей к уголовной ответственности становится не пресечение общественно опасных деяний, а отъем собственности, передел рынка [17].
До настоящего времени достаточно распространены ситуации, когда участники хозяйственных правоотношений решают свои гражданско-правовые и корпоративные споры уголовно-правовыми формами воздействия друг на друга. В результате безосновательного вовлечения в гражданско-правовые отношения правоохранительных органов происходит криминализация обычной хозяйственной деятельности участников гражданского оборота. Экспертами отмечается увеличение так называемых «заказных» уголовных дел [9].
Вышеуказанную негативную тенденцию неоднократно отмечал Президент Российской Федерации в своих докладах [18, 19]. Обращали внимание на излишнюю криминализацию предпринимательской деятельности и представители научного сообщества [8, 11], а также практикующие юристы. Не остаются без внимания проблемы уголовного преследования предпринимателей и в докладах Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей [20].
Анализ статистических данных по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности позволяет прийти к выводу о наличии весьма негативной тенденции.
Так, по данным Главного информационноаналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 2022 год было зарегистрировано 111,4 тысяч преступлений экономической направленности, из которых 39,4 % составили преступления в сфере предпринимательской деятельности (глава 22 Уголовного кодекса РФ), то есть 43,8 тысяч уголовных дел данной категории [21].
При этом, согласно представленным статистическим сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2022 году на рассмотрение в российские суды поступило 13,3 тысяч дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, содержа- щихся в гл. 22 УК РФ (статьи 169–200.6 УК РФ), из которых лишь 8,7 тысяч уголовных дел закончилось вынесением обвинительного приговора, по 55 уголовным делам подсудимые были оправданы [22].
Приведенные выше статистические данные за 2022 год свидетельствуют о том, что лишь треть возбужденных уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности доходит до судебного разбирательства и только по каждому пятому из них выносится обвинительный приговор.
Это при том, что, как было отмечено Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателей чаще всего приводит к разорению бизнеса, а для страны и ее граждан – к потере рабочих мест. И даже если предприниматель в конечном счете докажет, что невиновен, никто не вернет ему потерянный бизнес, производственные мощности, а также утраченный персонал [23].
Как отмечают практикующие юристы, уголовное производство зачастую ведется со значительными нарушениями установленных законом процессуальных сроков, и предпринимательские преступления тут не являются исключениями. В результате попавшие в поле зрения правоохранительных органов предприниматели длительное время находятся в ситуации неопределённости, вызванной возможностью привлечения их к уголовной ответственности, что негативно влияет на экономические результаты бизнеса, нарушает деловые процессы, эмоциональный настрой в трудовом коллективе, приводит к оттоку клиентов.
Именно поэтому создание условий для эффективной защиты по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности является весьма актуальной проблемой современного российского правопорядка.
Практикующие адвокаты отмечают, что зачастую при осуществлении следственных действий в отношении предпринимателей сотрудники оперативных органов еще до прибытия защитника проводят с предпринимателями так называемые «разъяснительные беседы», в ходе которых они устанавливают круг подозреваемых по уголовному делу, а также выясняют необходимые для расследования дела сведения. При этом к предпринимателям зачастую применяются недопустимые способы воздействия, такие как запугивание, дача необоснованных обещаний об освобождении от уголовной ответственности в случае признания вины, умышленное введение в заблуждение относительно фактических обстоя- тельств уголовного дела. Несмотря на наличие в законе положений, предусматривающих обеспечение подозреваемому до начала допроса свидания с защитником наедине и конфиденциально продолжительностью не менее двух часов, в правоприменительной практике должностные лица органов предварительного расследования часто пренебрегают данным правом подозреваемого, ограничивают время конфиденциального общения с защитником, не создают необходимые для этого условия [16].
При этом в юридических публикациях отмечаются процессуальные сложности доказывания того, что свидание подзащитного с защитником было ограничено относительно необходимой продолжительности, поскольку в законе прямо не указано, в какой форме должно быть сделано уведомление в адрес следователя о недостаточности времени свидания с защитником – в письменной или устной, а также должно ли решение об ограничении свидания с защитником оформляться следователем в виде постановления [12].
Также возникают сложности при применении на практике законодательства, направленного на минимизацию применения в отношении предпринимателей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Так, еще в конце 2009 года в статью 108 УПК РФ законом, направленным на декриминализацию сферы налоговых правоотношений, была внесена часть 1.1, которая установила запрет на применение заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, связанных с неуплатой налогов и сборов, предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ, за исключением исчерпывающего количества случаев, перечисленных в пунктах 1–4 части 1 статьи 108 УПК РФ [24].
После чего в часть 1.1 статьи 108 УПК РФ пять раз вносились изменения, и в последней редакции данной нормы закона [25] законодатель существенно дополнил перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации, к которым по общему правилу применяется запрет на применение заключения под стражу, установив две группы таких случаев.
Первая группа случаев связана с предъявлением обвинения по статьям 159 (части первая– четвертая), 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, однако с оговоркой, что это касается лишь случаев, когда указанные преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. Иными словами, законодатель выделил из «общеуголовных» преступлений случаи, когда преступ- ные деяния носят предпринимательский характер, для которых не может по общему правилу применяться мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вторая группа случаев связана с предъявлением обвинения по изначально признаваемым законодателем «предпринимательским статьям», к которым законодатель отнес части 5–7 статьи 159, все части статей 171, 171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4 и 190–199.4 УК РФ. Предполагается, что перечисленные преступления не могут быть совершены в отрыве от предпринимательской деятельности, и, следовательно, к ним безусловно применяются ограничения на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.
Между тем используемый в части 1.1 статьи 108 УПК РФ механизм минимизации применения заключения под стражу по предпринимательским преступлениям не вызвал одобрения у членов научного сообщества [1, 3, 15]. Бизнес-со-обществом в целом данные положения закона также не были восприняты как существенное послабление, поскольку на практике оговорка о том, что преступления должны быть совершены «в сфере предпринимательской деятельности», достаточно вольно трактуется в процессе правоприменения [23].
Суды чаще всего разделяют позицию следствия о том, что факт предпринимательской деятельности является лишь прикрытием для совершения преступления, которое фактически не связано с хозяйственной деятельностью подозреваемого или обвиняемого, и не усматривают предпринимательский характер преступления [26]. Встречается еще более вольная формулировка в судебных решениях, когда судьи при избрании заключения под стражу предпринимателям приходят к выводу о том, что оценка тому обстоятельству, совершено ли деяние непосредственно в сфере предпринимательской деятельности или нет, может быть дана судом только по итогам рассмотрения уголовного дела по существу, то есть после исследования в судебном заседании имеющихся по уголовному делу доказательств и вынесения итогового решения [27].
Признав «непредпринимательский характер» преступления, судьи мотивируют свои постановления об избрании предпринимателям меры заключения под стражу исключительно результатами оперативно-розыскной деятельности и утверждениями следствия, указывающими на то, что подозреваемый или обвиняемый имеет намерения скрыться от следствия или суда, воспре- 45
пятствовать производству по уголовному делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью. При этом каких-либо конкретных данных, указывающих на данные намерения подозреваемого или обвиняемого, у органа следствия, как правило, не имеется, и выводы судов о необходимости применения заключения под стражу делаются исключительно на основе того, что указанные события могут произойти [13].
Другим распространенным способом обхода положения о недопустимости применения к предпринимателям меры пресечения в виде заключения под стражу в сложившейся практике правоохранительных органов, в том числе и по прямо признанным законодателем «предпринимательским статьям», является необоснованное возбуждение уголовного дела или предъявление обвинения предпринимателям по иным общеуголовным статьям закона, в том числе абсолютно не мотивированного [2]. Наиболее распространенной тут является статья 210 УК РФ, и это несмотря на то, что в примечании к данной статье содержится безусловный запрет на возбуждение подобных дел в отношении участников бизнеса, который изначально не создавался для совершения преступлений. Тем не менее на практике обвинение по статье 210 УК РФ зачастую предъявляется предпринимателям с целью применения к ним более строгой меры пресечения, и это несмотря на отсутствие судебных перспектив вынесения обвинительного приговора [14].
Практикующие юристы отмечают, что применяемые к предпринимателям сроки заключения под стражу на период предварительного следствия и судебного разбирательства являются чрезмерно продолжительными, выходящими за грани разумных сроков уголовного судопроизводства. В результате заключение под стражу зачастую используется сотрудниками правоохранительных органов для давления на предпринимателей с целью вынуждения их признать свою вину, дать необходимые следствию показания в обмен на более мягкую меру пресечения, а также для сокращения возможностей для предпринимателя осуществлять свою эффективную защиту [5].
При этом обычно заявляемые стороной защиты ходатайства о применении более мягких мер пресечения, таких как домашний арест, запрет определенных действий и залог, отклоняются судами. До сих пор наиболее популярной мерой пресечения в российских судах, в том числе и по предпринимательским преступлениям, является заключение под стражу.
Так, согласно сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2022 году судами было удовлетворено 538 ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), при этом лишь 73 раза к задержанным был применен домашний арест (14 % дел), 15 раз (3 % дел) был применен запрет определенных действий, и ни разу не был применен в качестве меры пресечения залог (0 % дел). Из этого можно сделать вывод о том, что в оставшихся 84 % случаях подозреваемым и обвиняемым предпринимателям по предпринимательским преступлениям была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу [22].
При этом последующий судебный контроль пересмотра судебных постановлений не является действенным способом надзора за принимаемыми решениями по мерам пресечения, поскольку чаще всего суды апелляционных инстанций дублируют в своих судебных актах выводы нижестоящих инстанций без их дополнительной проверки.
Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2022 году в апелляционном порядке по жалобам и прокурорским представлениям осуществлялась проверка правильности вынесения 30,4 тыс. постановлений районных судов по ходатайствам следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По результатам рассмотрения указанных жалоб судами апелляционной инстанций было отменено лишь 922 судебных постановления районных судов, внесены изменения в 1,9 тыс. судебных постановлений. Таким образом, можно сделать вывод о том, что более 91 % апелляционных жалоб и представлений на меру пресечения в виде заключения под стражу отклоняются судами апелляционных инстанций [22].
Как итог, представители российского предпринимательского сектора пришли к выводу, что специально предусмотренные частью 1.1 статьи 108 УПК РФ положения об ограничении применения меры пресечения в виде заключения под стражу по «предпринимательским преступлениям» не принесли ожидаемых результатов по формированию благоприятного делового климата в стране, не дали дополнительных гарантий защиты предпринимателей от излишнего уголовного преследования [28].
Весьма актуальной остается проблема изъятия в рамках следственных действий оригиналов документов, связанных с предпринимательской деятельностью, к примеру правоустанавливающих документов, договоров с контрагентами, государственных контрактов, а также электронных носителей информации. Из-за большого количества изымаемых документов и ограниченности времени в рамках проводимых следственных действий зачастую предпринимателям не предоставляется технической возможности реализации своего предусмотренного частью 3 статьи 81.1 УПК РФ права снять за свой счет копии всех изымаемых у них документов.
Что касается электронных носителей информации, то зачастую при их изъятии предпринимателям не удается скопировать с них информацию по причине того, что сотрудниками следственных органов используется «лазейка» в законодательстве, установленная пунктом 3 части 1 статьи 164.1 УК РФ, позволяющая отказать в копировании изымаемой информации на основании того, что данная информация может быть использована для совершения новых преступлений, а также по причине того, что копирование изымаемой информации может повлечь за собой ее утрату или изменение [7].
Кроме того, несмотря на наличие в законе декларативного принципа, установленного статьей 15 УПК РФ, о том, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, фактически российское уголовное судопроизводство, особенно на стадии предварительного следствия, таким свойством не обладает.
Как установлено в статье 86 УПК РФ, среди субъектов, которым предоставлено право собирать доказательства в рамках уголовного дела, наряду со следствием указывается и защитник. Однако при системном толковании иных положений уголовно-процессуального законодательства с применением высказанных Конституционным Судом Российской Федерации правовых позиций, изложенных в некоторых его постановлениях [29], можно сделать вывод о том, что у защитника имеются существенные сложности в реализации данного права [6].
Законом предусмотрено лишь два эффективных инструмента сбора адвокатом доказательств по уголовному делу на стадиях доследственной проверки и предварительного расследования – это предусмотренное частью 1 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» право адвоката-защитника направить адвокатский запрос о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи его доверителю, а также закрепленное в части 3 статьи 86 УК РФ и части 3 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» право адвоката проводить опрос лица с его согласия.
При этом собранные адвокатом предметы и письменные документы, а также результаты опроса лиц с их согласия имеют возможность получить статус доказательств по уголовному делу исключительно через механизм заявленных следователю ходатайств и проведение последним ряда следственных и иных процессуальных действий, направленных на их фиксацию в качестве таковых. К примеру, следователь может допросить в качестве свидетеля лицо, которое ранее было опрошено адвокатом. Однако, как показывает адвокатская практика, зачастую следствие не вдается в оценку адвокатских опросов, отказывая в их приобщении к материалам уголовного дела по причине достаточности собранных по делу доказательств.
Еще одним кажущимся эффективным инструментом сбора доказательств стороной защиты является предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 53 УПК РФ право адвоката-защитника привлечь специалиста для использования его специальных познаний.
Однако на практике возникают сложности с признанием полученного стороной защиты заключения специалиста надлежащим доказательством по уголовному делу, с допросом привлеченного защитником специалиста в суде, а также с возможностью подвергнуть критической оценке выводы судебной экспертизы с помощью заключения специалиста, поскольку суды не признают их равного доказательственного значения [4].
Представляется, что доказательственный статус полученного стороной защиты в уголовном деле заключения специалиста должен быть прямо закреплен законодательно. В законодательство должны быть внесены положения не только об обязательном приобщении полученного стороной защиты заключения специалиста к материалам уголовного дела, но и об обязательной оценке его наравне с экспертным исследованием [10].
Предлагается на законодательном уровне пересмотреть действующий механизм сбора стороной защиты доказательств на стадии предварительного расследования, предоставив защитнику-адвокату эффективные механизмы сбора и предоставления доказательств наравне со следствием, что особенно актуально по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности.
Также следует согласиться с утверждением некоторых авторов о том, что настала необходи- мость полного изъятия из уголовно-процессуального законодательства механизма избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по «ненасильственным» преступлениям, с оставлением возможности применения указанной меры пресечения по указанным преступлениям лишь в исключительных, строго определенных случаях (отсутствие места жительства у подозреваемого или обвиняемого, неустановление его личности, нарушение им ранее избранной меры пресечения, доказанное сокрытие подозреваемого или обвиняемого от органов следствия) [12].
Список литературы Проблемы осуществления защиты по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности
- Гладышева О.В. Правила уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей: проблемы и пути их решения // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2018. Т. 28. Вып. 1. С. 103.
- Гриненко А.В., Иванов Д.А. Совершенствование мер процессуального принуждения в российском уголовном судопроизводстве // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 2. С. 94.
- Гриненко А.В. Система принципов создает общий фон стабильности и ориентиры для формулирования конкретных уголовно-процессуальных норм, а затем и для их реализации // Адвокатская практика. 2021. № 2. С. 3–9.
- Давлетов А.А., Чарыков А.В. Верховный Суд РФ «сворачивает» право адвоката-защитника привлекать специалиста в судебное следствие? // Российский судья. 2022. № 1. С. 60–64.
- Диков Г. Право на освобождение обвиняемого под залог (в свете практики ЕСПЧ) // Адвокатская практика. 2009. № 3. С. 29–36.
- Калюжный А.Н. Трансформация форм адвокатского расследования в уголовном процессе: проблемы правовой конструкции и практики реализации // Адвокатская практика. 2017. № 2. С. 44–49.
- Клевцов К.К. Некоторые аспекты уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 1. С. 109–100.
- Колоколов Н.А. Вот тебе, предприниматель, и амнистия, вот тебе и «Юрьев день» // Российский судья. 2014. № 2. С. 32–34.
- Кондрашев А.А. Проблемы реализации принципа независимости судей в России: от теории к правоприменительной практике // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8. С. 181–187.
- Овсянников И.В. Дискуссиям о заключении специалиста 10 лет // Законность. 2015. № 2. С. 48–51.
- Поляков С.Б. Условия российской правовой системы для заказных уголовных дел // Адвокат. 2009. № 5. С. 68–78.
- Приходько И.А., Бондаренко А.В., Столяренко В.М. Уголовное преследование как средство разрешения экономического спора: что не так в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. М.: Международные отношения, 2021. С. 385–386, 407.
- Русман Г.С. К вопросу об основаниях избрания меры пресечения в виде заключения под стражу // Вестник ЮУрГУ. 2007. № 18. С. 61–64.
- Семенова П.К. Коммерческая организация – преступное сообщество или нет? Бизнес вывели из-под статьи об организации преступного сообщества // Вопросы российской юстиции. 2020. № 8. С. 459–465.
- Семченко С.С. Актуальные проблемы по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 4–2 (56). С. 203.
- Хвенько Т.И. Право защитника на свидание как обязательное условие для формирования эффективной позиции защиты в ходе предварительного расследования // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 10. С. 135–143.
- Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере / под ред. В.И. Радченко, Е.В. Новикова, А.Г. Федотова. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. С. 10–13.
- Послание Президента Федеральному Собранию. Президент России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/70565.
- Расширенное заседание коллегии МВД. Президент России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/70744.
- Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Доклад Президенту РФ [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2021.html.
- Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2022 года [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677.
- Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2022 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7645.
- Доклад «Уголовное преследование по экономическим делам – 2017» [Электронный ресурс]. URL: https://www.president-sovet.ru/files/0b/01/0b01309bf35c74e445f463a329ab61e2.pdf?ysclid=lh8171fh7j299891043.
- Федеральный закон от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Федеральный закон от 02 августа 2019 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Апелляционное постановление Московского городского суда от 30 мая 2018 года по делу № 10-9382/2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Апелляционное постановление Московского городского суда от 23 мая 2022 года по делу № 10-5360/2022. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 2017 году «Бизнес под уголовным прессом» [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2017/pdf/4.pdf.
- Определение Конституционного Суда РФ от 04 апреля 2006 года № 100-О. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».