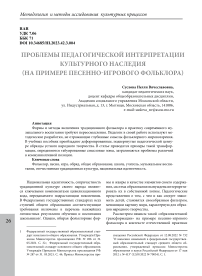Проблемы педагогической интерпретации культурного наследия (на примере песенно-игрового фольклора)
Автор: Суслова Н.В.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Формы и методы включения традиционного фольклора в практику современного музыкального воспитания требуют переосмысления. Педагоги в своей работе используют методические разработки, не отражающие глубинные смыслы фольклорного мировоззрения. В учебных пособиях преобладают деформированные, подвергнутые педагогической цензуре образцы устного народного творчества. В статье приводятся примеры такой трансформации, определяются табуированные смысловые зоны, затрагиваются проблемы различий в коммуникативной позиции.
Фольклор, песня, игра, обряд, общее образование, школа, учитель, музыкальное воспитание, отечественная традиционная культура, национальная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170203775
IDR: 170203775 | УДК: 7.06 | DOI: 10.34685/HI.2023.42.3.004
Текст научной статьи Проблемы педагогической интерпретации культурного наследия (на примере песенно-игрового фольклора)
Национальная идентичность, сопричастность традиционной культуре своего народа являются ключевыми компонентами цивилизационного кода, передаваемого подрастающим поколениям. В Федеральных государственных стандартах всех ступеней общего образования соответствующие требования включены в перечень важнейших личностных результатов обучения и воспитания школьников1. Однако, вбирая фольклорные фор- мы и жанры в качестве элементов своего содержания, система образования вынуждена интерпретировать их в собственной логике. Педагогические представления о том, с чем и как следует знакомить детей, становятся своеобразным фильтром, меняющим картину мира, характерную для образцов народного творчества.
Рассмотрим нюансы такой «образовательной трансформации» на примере песенно-игрового фольклора в контексте отечественной практики свещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (12.09.2022 № 70034). С. 1.
музыкального воспитания. Именно через игровой фольклор наиболее органично может происходить приобщение детей к народной музыке. Такова позиция Л. Л. Куприяновой2, Г. М. Нау-менко3, ряда других видных учёных, признанных музыкантов-фольклористов. Однако более тщательный анализ показывает, что под единым названием порой подразумевается широкий круг явлений, далёких друг от друга по смыслу и содержанию.
Переживание игрового состояния представляет огромную ценность для личностного развития ребёнка. Особенно плодотворными являются традиционные игры, пропитанные семантикой родной культуры, хранящие и передающие архетипические паттерны национального самосознания. Но современные дети практически перестали играть на улицах и во дворах. Из соображений безопасности взрослые сопровождают их до дверей школы и обратно. Помимо прочих искажений, этот образ жизни серьёзно затрудняет процесс передачи «из уст в уста» считалок, дразнилок, игр и других образцов детского фольклора непосредственно внутри детской среды.
Частично этот дефицит могла бы восполнить школа. Однако учитель сам уже не является непосредственным носителем фольклорной традиции и руководствуется в данном вопросе, как правило, типовыми методическими разработками. А те, в свою очередь, несут на себе отпечаток множественных итераций прошлых лет. Возникает многоступенчатая интерпретация, уводящая всё дальше от реальных фольклорных текстов. Покажем это на конкретных примерах.
С наступлением зимы большинство учителей музыки рассказывают школьникам о календарных праздниках, разучивают колядки. Некоторые прямо в классе разыгрывают сценки обхода домов с Рождественскими звёздами и получением угощения. В реальной традиции празднования Рождества бытовали разные тексты, в том числе и «хулиганские», но для такого урока выбираются наиболее «правильные» с педагогической точки зрения фрагменты. Нет нужды объяснять, поче- му так происходит. Инсценировка выглядит чинно, благообразно, но остаётся лишь бледным подобием настоящего обрядового действа.
Суть трансформации заключается не только в допуске на урок одних фольклорных текстов и недопуске других. Быть настоящими колядов-щиками или изображать колядовщиков — совсем не одно и то же. Искусственность ситуации определяется многочисленными «рамками приличия», вызывая в лучшем случае любопытство, но никак не подлинно игровое праздничное состояние. Является ли то, что происходит в классе игрой? Вероятно, является, но с одной существенной оговоркой. Это — не настоящий игровой фольклор, а театрализованные представления о нём, рафинированная «игра в фольклор», которая рождает у её участников совершенно иные внутренние ощущения.
Часто люди, получившие классическое музыкальное образование, свысока оценивают звучание аутентичного народного пения. «Открытый» звук, бесконечно повторяющиеся куплеты, отсутствие драматургии, динамики — всё это делает подлинный фольклор «неинтересным» для современного музыкально образованного слушателя. Но игровая песня и не была предназначена для внешних наблюдателей. Она — не для слушания, она — для пения. И тот человек, который сам поёт, играет вместе с другими, чувствует себя абсолютно свободным и одновременно защищённым, когда находится внутри этой коллективной звуковой атмосферы. Разыгрывая в классе сценки «из народной жизни», современный учитель, таким образом, не даёт своим ученикам главного — опыта переживания особого состояния автокоммуникации, погружения в коллективное бессознательное в гармонии с самим собой, другими людьми и природой. Ведь внутренняя игра «для себя» и театрализованная игра напоказ, «для других», — это две принципиально разные коммуникативные позиции.
Отдельного внимания заслуживает семантическое поле, связанное с народными играми и обрядами. Вот, например, какое описание зимней святочной игры приводит этнограф XIX века С. В. Максимов: «Одного человека наряжают во всё белое, натирают овсяной мукой лицо, вставляют в рот длинные зубы из брюквы и кладут на скамейку или в гроб. "Покойника" вносят в избу, сзади идёт "поп" в рогожной ризе, с кадилом в виде глиняного горшка или рукомойника, в котором дымятся горячие уголья и сухой куриный помёт... Гроб ставят на середину избы, и начинается отпевание, состоящее из самой отборной, что называется "острожной" брани. По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником… Кончается игра тем, что часть парней уносит покойника хоронить, а другая часть остаётся в избе и устраивает поминки, состоящие в том, что мужчина, наряженный девкой, оделяет девиц из своей корзины шаньгами — кусками мёрзлого помёта», и так далее… Если рассуждать о возможностях музыкального воспитания в школе, то очевидно, что в таком виде фольклорная игра вряд ли может появиться в современном учебном классе.
«Игра в покойника называлась "похоронами Костромы". Человек, изображавший мертвеца Кострому, в конце игры вскакивал и пускался в пляс»4. Этот «неожиданный» поворот этнографического описания у многих современных педагогов способен вызвать подлинное удивление. Оказывается, за натуралистическими подробностями мы не смогли распознать ту самую игру «Кострома», которая включена во многие методические материалы по музыке и репертуарные сборники для детей! Но может быть одинаковое название — не что иное, как простое совпадение? Нет, не совпадение. Это — следы процесса трансформации фольклорного образа, отстоящие друг от друга на сотни лет. Аргументами в пользу данной гипотезы являются промежуточные варианты игры. В более «бытовом» виде, зафиксированном Д.В. Покровским в 70–80-е годы прошлого века в Брянской области, Кострома прядёт кудельку, ткёт холстину; и только потом заболевает, умирает и вновь воскресает5. И, наконец, в педагогически «благонадёжном» варианте Кострома после прядения и вязания лишь немного «отбила себе пальчики», но всё равно «здоровенькая» и бросается ловить других игроков6.
Данный пример наглядно демонстрирует, насколько сильно может отличаться народный про- образ от рафинированного варианта, используемого в музыкальном воспитании. Современные учителя получают в наследство от своих коллег не сами народные образцы, а их отредактированные копии. И процесс этот длится уже двести лет. Вот какие замечания предваряют сборник детских песен и игр для народных школ и гимназий Е. Н. Водовозовой: «…мы внимательно перечитали все сборники народных песен: Сахарова, Шейна, Безсонова и также музыкальные сборники: Афанасьева, Балакирева, Вильбоа. Мы увидели, что содержание лучших песен чуждо детскому пониманию: тут выставляют или гнёт семейной жизни, любовь; в остальных — игра слов без всякого смысла». В результате автор считает необходимым видоизменение фольклорных текстов в воспитательных целях7.
Упомянутый сборник Е. Н. Водовозовой выдержал несколько переизданий (начиная с 1871 по 1915 гг.), что говорит о его популярности на протяжении почти полувека активного развития воспитательной мысли в дореволюционной России. Очевидно, что сама составительница, как и многие представители интеллигенции XIX века, не была носителем народной традиции, находилась по отношению к фольклору в позиции «стороннего наблюдателя». Получается, что в музыкально-педагогической практике народные игры и песни давно передаются не «из уст в уста», а из одного печатного сборника в другой — со всё большими слоями ретуши в самых благих целях….
В связи с этим необходимо отметить два исключительно важных момента. Во-первых, это грандиозная мера ответственности, которую принимают на себя собиратели фольклора, этнографы, записывающие и публикующие образцы народного творчества. Они, по сути, становятся медиаторами, переводящими фольклорные тексты из их естественного устного бытования во вторичное — письменное пространство, более доступное и надёжное в современных условиях. Во-вторых, это необходимость критичного отношения к сборникам народных песен с учётом возможных более поздних наслоений и субъективных мировоззренческих позиций их соста- вителей. Тем более, что в рамках общей благородной установки на сохранение традиционной культуры они могут транслировать далеко не безобидные тезисы. Вот, например, как отзывается об известной игровой песне «Дрёма» другая собирательница русского фольклора, современница Е. Н. Водовозовой — О.Х. Агренева-Славянская: «Дрёма — ничто не в состоянии её серьёзно расшевелить. Не образ ли это русского человека?» — задаёт она риторический вопрос8. И должны были пройти десятилетия для того, чтобы фольклористика уже следующего — ХХ столетия — смогла дать на него научно обоснованный ответ: «нет, это не образ человека, это образ покойника». Игры в смерть, игры со смертью, коммуникация с представителями потустороннего мира являются неотъемлемой частью фольклорного мировоззрения (В. Я. Пропп, О. М. Фрейденберг и др.).
Текст, который в детском саду распевают современные малыши: «Ходит-ходит Яша, ходит по кружочку, ищет-ищет Яша для себя дружочка», — представляет собой сильно упрощённый вариант старинной молодёжной игры с мотивом женитьбы, причём женитьбы с представителем потустороннего мира. Яша — он же ящер, он же пращур9. При внимательном анализе подобный подтекст обнаруживается и в самых безобидных прятках, салочках, игре «В коршуна», и многих других игровых сюжетах.
Игра как символический архив культурных кодов на уровне коллективного бессознательного сохранила важнейшие образы и смыслы архаического мировоззрения. Время, социальные рамки, соображения педагогической целесообразности приводят к трансформации фольклорных текстов. Но не потому ли, что из народных игр изъяты все специфические подробности, они подчас выглядят «потухшими», утратившими живой дух и азарт? Играть в них уже не так интересно…
Другой пример — колыбельные. Нет, наверное, ни одного учебного пособия для детей, где не говорилось бы о ласковых песнях, которыми мамы убаюкивали своих малышей. Ученикам приходится верить взрослым на слово, так как в современном семейном укладе пение мамы у кроватки ребёнка — большая редкость.
Но ведь и девочка может спеть колыбельную своей кукле… Казалось бы, вот — прекрасная игровая ситуация, которая позволяет моделировать поведение, недоступное в реальности. Но что именно должно при этом прозвучать? Приведём развёрнутую цитату из упоминавшегося ранее сборника П. А. Бессонова с подлинным текстом игровой колыбельной:
«Приди котик ночевать, / Мою милую качать. / Уж как я тебе коту, / За работу заплачу. /За работу заплачу / Кочерьгою по плечу; / Уж как я тебе коту, / Помелом по хвосту. / Сон идёт по сеням. / Дрёма по терему: / Баю-баюшки-баю, / Колотушек надаю. / Сон говорит: / Усыплю да усыплю; / Дрёма говорит: / Удремлю да удремлю. / Спи, да усни, / На погост гости: / Бай, да люли, / Заболей да умри. / Кладём чурочку / Во могилочку: / Подле бабушки, / Возле матушки / …и похоронят куклу, и опять она оживёт»10.
Это игра одновременно и в колыбельную, и в смерть. А с точки зрения жанра колыбельной, это ещё и смеховой перевёртыш. Но ни в одной школьной программе по музыке мы не найдём подобных примеров. Не найдём ни игры в смерть, ни даже намёка на пародийное переиначивание такого рода. Эти смысловые зоны табуированы в нашем педагогическом пространстве.
Однако природа не терпит пустоты. Интерес к смерти и потустороннему миру дети проявляли во все времена. В классическом труде К. И. Чуковского «От двух до пяти» этому вопросу посвящён целый раздел11. Не менее убедительно Д. С. Лихачёв раскрывает логику культурного развития общественного сознания через осмеяние тради-ции12 . Более поздний детский фольклор демонстрирует устойчивый интерес к аналогичным сферам. Достаточно проанализировать содержание «садистских куплетов», переделок популярных песен из кинофильмов, обряды вызывания «Пиковой дамы» и другие специфические формы
-
10 Бессонов П. А. Детские песни. М.: Типография Бахмете-ва, 1868. С. 62.
-
11 Чуковский К. И. От двух до пяти. М.: Издательство «Мелик-Пашаев», 2010. 447 с., С. 157–166.
-
12 Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н.В. Смех в древней Руси. Л.: Наука: Ленинградское отделение, 1984 г. 295 с.
фольклорного поведения детей, зафиксированные отечественными специалистами в конце ХХ столетия13. Уже в XXI веке в России парадоксально быстро прижилась традиция празднования Хэллоуина, современные школьники с явным удовольствием играют в компьютерные страшилки и пересказывают друг другу фильмы-ужастики про зомби и вампиров. Почему так? Одна из причин — заполнение смысловой лакуны, образовавшейся вследствие нашей педагогической цензуры. Ограничивая круг значений и смыслов собственной традиционной культуры, мы оставляем незасеянным семантическое поле, которое быстро заполняется семенами других культурных традиций. Возвращаться к самым истокам и реанимировать в подлинном виде, например, игру, описанную С. В. Максимовым, было бы излишне радикальным решением. Но сделать хотя бы полшага назад, критически оценить степень трансформации родного фольклора, поискать новую точку равновесия между подлинными текстами и способами их педагогической интерпретации — совершенно необходимо. Тем более, что советская фольклористика успела зафиксировать достаточное количество образцов аутентичного фольклора, сохранявшихся вплоть до 70–80-х годов ХХ века в российской глубинке. Это было сделано уже с применением аудиозаписи и с несравненно более высокой степенью научной достоверности и ответственности (по сравнению с приведёнными ранее примерами Е.Н. Водовозовой, О.Х. Агреневой-Славянской).
Почему данная проблема особенно актуальна для музыкальной педагогики? Потому что эти процессы затрагивают не только слова народных песен, но также их ритмоинтонационные, мелодические характеристики. Русская классическая музыка сформировалась в значительной степени под влиянием национального фольклора, представленного в обработках П. И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, других выдающихся композиторов XIX — начала XX века.
Ими было сделано, без преувеличения, великое дело. Однако творчество представителей «новой фольклорной волны» второй полови- ны ХХ века наглядно продемонстрировало разительный контраст между «классическим слышанием» предыдущего столетия и современным восприятием, не скованным рамками строгой мажоро-минорной системы. Свободное глиссан-дирование, зонная природа фольклорного пения, модальность вместо тональности… Всё это, конечно же, звучало в русских песнях и во времена Чайковского. Но в нотной записи того периода ничего подобного нет и в помине. Способы полноценной нотации музыкального фольклора сегодня являются зоной пристального внимания специалистов. А в школьных хрестоматиях народные мелодии по-прежнему публикуются с классической гармонизацией А. К. Лядова и Н.А. Римского-Корсакова.
Беспрекословный авторитет классиков не позволяет усомниться в их целесообразности, несмотря на все достижения фольклористики и этнографии ХХ века. Так, перед современными детьми мелодия «А мы просо сеяли» и целый ряд других предстают в виде фрагментов из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. При этом вокруг народного мотива возникает «ореол шедевра», которым можно наслаждаться только в том неизменном виде, в каком его запечатлел великий композитор. Что, конечно, полностью противоречит естественному способу вариативной передачи традиционных народных напевов.
Музыкальная педагогика придерживается собственных канонов, которые накладывают неизбежный отпечаток на формы и методы преподавания. Однажды найденные приёмы в значительной степени предопределяют вектор дальнейшего движения. Так, линия «прихорашивания» фольклора, отмеченная ранее в связи со сборником Е. Н. Водовозовой, получила дальнейшее развитие уже в советские годы. После Великой Отечественной войны специалисты целенаправленно занимались отбором и классификацией игр, формированием репертуарных сборников для детей по возрастным группам. Примечательно, что к фольклорным играм силами советских композиторов тогда были созданы разнообразные варианты фортепианного сопровождения. В результате профессиональной аранжировки народная игра «Заинька, выходи» превращалась в развёрнутое художественное полотно с аккомпанементом в духе глинкин-ских вариаций, сменой фактуры и напряжённым драматическим развитием от куплета к купле- ту. «У медведя во бору» обрастала большим количеством стихотворного текста, который надо специально учить. «Хозяйка и гуси» вместо привычного «Гуси-гуси! — га-га-га» — становилась мини-спектаклем с песенкой гусей, песенкой хозяйки, сценой полёта и стихотворными диалогами в «народном» стиле14… Курс, взятый на театрализацию, уводил музыкальных педагогов всё дальше от «игры для себя» к «игре для других», сокращая возможности получения детьми бесценного опыта игровой коммуникации.
Дефицит игрового общения привёл к появлению в современном социуме различных «игровых» профессий: игропрактиков, аниматоров, игровых терапевтов. А вот педагоги-музыканты, для которых игровой фольклор должен быть органичной частью их профессионального инструментария, оказываются в стороне от этих тенденций, оставаясь заложниками накопившихся штампов и стереотипов.
Нами было проведено комплексное анкетирование среди учителей музыки общеобразовательных школ из разных регионов России. Один из вопросов анкеты был сформулирован следующим образом: «Используете ли Вы в своей работе с детьми игровые приёмы и методы? Если да, то какие?» На вопросы анкеты ответили 580 человек, из них только 20 указали, что они используют фольклорные игры в работе с детьми — это менее 3,5 %. Интерпретируя данные, можно с высокой долей вероятности утверждать следующее. Подавляющее большинство учителей при обращении к детскому фольклору не чувствуют его игровой природы. Они используют образцы народного творчества как материал для вокальнохоровой работы, как «иллюстрацию» для расширения общекультурного кругозора, как примеры для изучения нотной грамоты и т.д. и т.п. То есть они воспринимают фольклор как средство достижения других целей. Но намерение «припасть к живительному источнику» народной традиции не учитывает того, что сам этот источник сегодня рискует иссякнуть, пребывая в весьма замусоренном состоянии. Забота о поддержании традиций детского игрового фольклора как такового оказывается за пределом круга интересов профессионального педагогического сообщества.
Полнота осознания современными детьми своей национальной идентичности напрямую зависит от осознания музыкально-педагогической общественностью сложившейся ситуации. Необходима как можно более глубокая и содержательная переоценка устоявшихся форм и методов музыкального воспитания, поиск путей осознанной и ответственной педагогической работы с бесценной сокровищницей народного творчества.
Список литературы Проблемы педагогической интерпретации культурного наследия (на примере песенно-игрового фольклора)
- Агренева-Славянская О.Х. О народной поэзии и песне. СПб.: Тип. Гоппе, 1881. 41 с.
- Бессонов П. А. Детские песни. М., Типография Бахметева, 1868. 253 с.
- Видеозапись концерта фольклорного ансамбля п/у Д. Покровского [электронный ресурс] — URL: https://youtu.be/mCgHxWOCtJQ (дата обращения 21.05.2023).
- Водят дети хоровод. Музыкальные игры для детей дошкольного возраста. / Сост. М. А. Медведева, В. П. Рыжкова — М.: Музыка, 1988. — 48 с.
- Играйте вместе с нами: игры из радиопередач для дошкольников. / Музыка Е.Тиличеевой, авт. игр М. Булатов и О. Москвичева. — М.: Музгиз, 1954. — 55 с.
- Куприянова Л.Л. Русский фольклор: программно-методические материалы, 1-4 классы. М.: Мнемозина, 2008. 160 с.
- Лихачев Д. С., Панченко А.М., Понырко Н. В. Смех в древней Руси. Л.: Наука: Ленинградское отделение, 1984 г. 295 с.
- Науменко Г.М. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению. — М.: Издательство «Современная музыка», 2013. — 138 с.
- Одноголосныя десткия песни и подвижныя игры с русскими народными мелодиями. Для народных школъ, детских садовъ и нисших классовъ гимназий. / Сост. с предисл. Е. Н. Водовозова, с аккомпанементом А.И. Рубца. СПб., 1876. 36 с.
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (12.09.2022 № 70034). [Электронный ресурс]. — URL: https://edsoo.ru/do wnload/956?hash=701b5296b482f8ae1c95251dff5b6 74f (дата обращения 21.05.2023).
- Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов / Сост. А.Ф. Белоусов. — М. Назрань: Научно-издательский центр «Ладомир»: АСТ, 1998. 743 с.
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования. Утверждён Приказом Министерства просвещения РФ. № 286 от 31. 05.2021. [Электронный ресурс]. — URL: https://edsoo.ru/download/50?hash =ee006fef51ab0826239a20adce606207 (дата обращения 21.05.2023).
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Утверждён Приказом Министерства Просвещения РФ. № 287 от 31. 05.2021. [Электронный ресурс]. — URL: https://edsoo.ru/download/443?hash=b6bd7 eee3b8dcb26f922934c5cc43e99 (дата обращения 21.05.2023).
- Чуковский К.И. От двух до пяти. М.: Издательство «Мелик-Пашаев», 2010. 447 с.