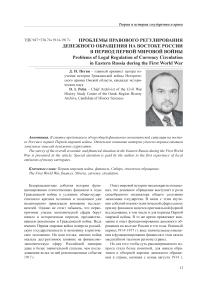Проблемы правового регулирования денежного обращения на востоке России в период первой мировой войны
Автор: Петин Д.И.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теория и история государства и права
Статья в выпуске: 1 (22), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор общей финансово-экономической ситуации на востоке России в период Первой мировой войны. Отдельное внимание автором уделено первым опытам локальных эмиссий денежных суррогатов.
Первая мировая война, финансы, сибирь, денежное обращение
Короткий адрес: https://sciup.org/14317567
IDR: 14317567 | УДК: 947+336.7461914-19179
Текст научной статьи Проблемы правового регулирования денежного обращения на востоке России в период первой мировой войны
Беспрецедентные события истории функционирования отечественных финансов в годы Гражданской войны в условиях общегосударственного кризиса политики и экономики уже неоднократно привлекали внимание исследователей. Однако не стоит забывать, что первопричины упадка экономической сферы берут начало в историческом периоде, предшествовавшем революции и Гражданской войне. Ведь именно Первая мировая война повергла российскую государственность и экономику в критическое положение. На наш взгляд, именно война оказала деструктивное влияние на финансовоэкономическую сферу Российской империи даже в более значительной степени, чем последовавшие вслед за ней революционные события 1917 г.
Опыт мировой истории неоднократно показывал, что денежное обращение выступает в роли своеобразного индикатора общего состояния экономики государства. В связи с этим изучение событий военно-политической сферы сквозь призму финансов видится оригинальной формой исследования, в том числе и для периода Первой мировой войны. В то же время привлекает внимание и опыт функционирования денежного обращения на востоке России в эти годы. Военный период 1914–1917 гг. внес значительные изменения в функционировании финансов в этом самом масштабном тыловом регионе страны.
Но для того чтобы суть рассматриваемого вопроса стала более понятной, для начала обратимся к обзорной картине денежного обращения в стране, начиная с конца августа 1914 г.
Было вполне закономерным явлением, что три военных года поспособствовали значительному увеличению государственных расходов и, как следствие, росту бюджетного дефицита, внешнего и внутреннего долга. Война, постоянно требовавшая от государства значительного объема все новых и новых ассигнований, привела к тому, что со стороны центральной власти регулярной стала практика внутренних и внешних займов, сопровождавшаяся выпуском специальных ценных бумаг (облигаций и особых казначейских билетов, в том числе для обращения за границей).
Свободный размен кредитных билетов на золото еще осенью 1914 г. был прекращен. В то же время уже в 1915 г. в денежном обращении проявилась любопытная тенденция: функции находившихся в обращении денежных знаков разделились в зависимости от материала их изготовления. Денежное обращение начиная с 1916 г. стало полностью бумажным. Но бумажные деньги исполняли в большей степени функции средств для наличного расчета, а металлические деньги превратились в предмет тезаврации. Металлические деньги продолжали выпускаться практически до момента свержения царской власти. В частности, специалистам по нумизматике известны монеты Николая II с датой «1917». Но золотые и серебряные монеты (а впоследствии даже медные) уже в 1915-1916 гг. воспринимались рядовым населением как полноценные и более надежные средства для сохранения денежных накоплений. Функции разменных серебряных и медных монет в обращении выполняли специально выпущенные царским правительством разменные денежные суррогаты, исчисленные в копейках, - казначейские знаки образца 1915 г. и деньги-марки [4, с. 60, 95–98, 120].
Все это сопровождалось значительным увеличением темпа эмиссии необеспеченных бумажных денег, товарным дефицитом и ростом цен. В результате обесценение российской национальной валюты происходило весьма стремительными темпами. За 1914-1917 гг кредитный бумажный рубль обесценился в четыре раза. Если в августе 1914 г. в обращении находилось 1,6 млрд рублей, то к марту 1917 г. эта цифра составляла порядка 10 млрд рублей при покупательной способности рубля не более 27 копеек. К октябрю 1917 г. в обращении было уже порядка 19,5 млрд рублей, а покупательная способность рубля не превышала уже 6-7 копе- ек. В золотом исчислении стоимость возраставшей эмиссии бумажных денег с середины 1914 г. до начала 1918 г. снизилась с 1,4 до 0,525 млн рублей [3, с. 215–252; 11, с. 35; 12].
Временное правительство Львова-Керенского, продолжившее в денежно-эмиссионной политике линию императорской власти, увеличивало эмиссию необеспеченных бумажных денег, вводя собственные новые образцы денежных знаков. В марте 1917 г. появился и новый государственный внутренний заем – Заем свободы. Временное правительство планировало осуществить реформу денежной системы государства на основе введения в обращение новых банкнот, для чего в Североамериканских Соединенных Штатах на фабрике American banknote company был размещен специальный заказ на изготовление денежных знаков высокого полиграфического уровня, не уступающих по качеству дореволюционным кредитным билетам. Кроме того, в 1917 г. консорциумом тридцати крупнейших банков Петрограда и Москвы были подготовлены к выпуску особые денежные знаки нового образца, а также чеки ограниченного времени обращения. Однако ни один из указанных эмиссионных проектов в силу различных причин так и не был осуществлен Временным правительством.
Но денежное обращение в стране претерпело изменения не только в ходе общеполитической ситуации. Новая и зачастую тяжелая обстановка складывалась на местах, прежде всего, по причине географических особенностей Российского государства. Региональная система казначейств и банковских отделений представляла собой большую разветвленную сеть. И первые затруднения в финансовой сфере возникли уже сразу с началом Первой мировой войны.
Действительно, проблемы эти являлись масштабными, однако пока они еще не имели какого-либо устрашающего характера. В частности, к концу 1914 г. на восток России был направлен значительный поток солдат и офицеров противника, оказавшихся в плену у русской армии в ходе боевых действий. Как следствие, с появлением в регионе иностранных подданных из числа военнопленных в обращение стало попадать большое количество иностранной валюты. Главным образом это были немецкие марки и австрийские кроны. Иностранные денежные знаки, представленные как банкнотами, так и монетами, стали предъявляться иностранцами при расчетах с населением и платежах в учреждениях. В связи с этим региональные отделения Государственного банка, находящиеся на востоке России, стали запрашивать Петроград о том, как следует поступать с предъявляемой в платежи иностранной валютой. Но возникший межведомственный вопрос удалось оперативно разрешить.
Для быстрого предотвращения возникших сложностей при расчетах Главное управление Генерального штаба императорской армии сделало специальный запрос в Министерство финансов. Российское финансовое ведомство в ответ предписало отделениям Государственного банка, губернским и уездным казначействам принимать иностранную валюту по следующим фиксированным курсам военного времени: германские кредитные билеты принимались из расчета 30 копеек за одну немецкую марку, австрийские банкноты – 25 копеек за одну крону. Монеты принимались исключительно отчеканенные из драгоценных металлов, при этом немецкая марка оценивалась в 46,17 копейки, австрийская крона – в 39,15 копейки. В то же время бронзовые, никелированные и медные монеты пригодными для платежей на территории Российской империи Министерством финансов признаны не были [5, л. 38–38 об.]. Начиная с 9 с ентября 1916 г. к списку валюты противников, принимаемой отделениями Государственного банка, добавили и турецкую лиру, которая принималась в золотой монете по 8,5 рублей за лиру нового чекана и по 3 копейки за 1 пиастр в банкнотах [2, л. 93–93 об.].
Интересны также проявления своего рода экономического гуманизма, которые, как видно, были нормальной практикой для противостоявших в войне сторон. В частности, 14 ноября 1916 г. от Главного управления Генерального штаба было получено сообщение, что правительство кайзеровской Германии издало распоряжение о повышении курса размена российских рублей на немецкую марку для русских военнопленных. В ответ для германских военнопленных также была повышена стоимость германских банкнот и серебряной монеты при обмене: германские банкноты стали приниматься по 37 копеек за 1 марку, германская серебряная монета – по 20 копеек за 1 марку [2, л. 110].
В то же время нормальная финансовая связь окраинных территорий с центром (в том числе и востока России) стала нарушаться. Общий кризис финансовой сферы всего государ-
Теория и история государства и права ства наиболее остро стал проявляться в удаленных от его центра местностях, где учреждения Государственного банка и казначейства перестали получать необходимое им кассовое подкрепление в установленные сроки и в требуемом объеме.
Перебои с присылкой денежного подкрепления в итоге привели к тому, что приток денежных знаков в кассы сократился. Отдельные районы и области востока России стали остро ощущать денежный кризис, который, достигая своего апогея, обычно разрешался выпуском местных денежных суррогатов [10, с. 1]. Так, нарушение привычных экономических связей на востоке России в 1915–1916 гг. стало причиной первых опытов узко локализованных эмиссий денежных знаков необязательного обращения (бон). Подобного рода платежные средства стали выпускаться в обращение еще в тот период, когда финансовая сфера в регионе была относительно стабильна (по сравнению с тем, что будет иметь место в недалеком будущем). Данные выпуски денежных суррогатов не имели никакого официального разрешения центральной власти, а их появление в денежном обращении диктовалось жизнью и было связано с усугублявшейся тяжелой обстановкой в региональных финансах. Ключевой функцией этих бон было восполнение дефицита в денежном обращении разменной монеты. Характерными примерами такого рода местных платежных средств являются боны кооперативных организаций на Урале в 1916-1917 гг. [9, с. 44–45, 91]
Особняком выделяется прецедент в денежном обращении, опять же связанный с иностранными военнопленными. В городах Сибири и Дальнего Востока появлялись специальные лагеря для военнопленных, имевшие свою хозяйственно-экономическую жизнь. Известны многочисленные боны лагерей военнопленных, занявшие собственную нишу в локальном денежном обращении уже вскоре после появления их эмитентов в 1916–1917 гг. [14, с. 17, 20, 36–38, 42–43, 46–47; 15, с. 119–130] Но предназначались лагерные платежные средства в большей степени для внутренних расчетов.
Однако дореволюционные выпуски местных денежных суррогатов, обеспечивавшие недостающим разменным финансовым подкреплением некую ограниченную территорию, весьма незначительно повлияли на общее состояние денежного обращения в регионе. Ключевые позиции все еще сохранялись за общегосударственными кредитными билетами и казначейскими знаками царского, а затем и Временного правительств. Тем не менее тенденция дефицита денежных знаков осенью 1917 г. уже твердо наметилась в денежном обращении востока России [6, л. 15–17]. Деятель антибольшевистского движения и финансист В. П. Аничков (1871–1939 гг.) вспоминал позднее: «Начало осени 1917 г. ознаменовалось в финансовой области денежным голодом, несмотря на выпущенные «зеленые деньги» достоинством в 250 и 1000 рублей и «керенки» в 20 и 40 рублей» [1, c. 55]. О дефиците в обращении разменных денег в Забайкалье летом 1917 г. свидетельствует и иркутский краевед Н. С. Романов (1871–1942) [13, с. 244].
Уже в начале осени 1917 г. существенно пострадала в Сибири из-за нехватки наличных денег заготовка продовольствия, являвшаяся в военное время для государства вопросом стратегически важным. В этот период организации, отвечавшие за это, пытались рассчитываться с поставщиками вкладными листами, специальными удостоверениями и другими способами (минуя наличные деньги). Были отмечены выпуски специальных бон кредитными союзами для заготовителей хлеба. Но эти меры в конечном итоге приводили к росту негодования населения и сокращениям сдач хлеба (вплоть до отказа). Подобные явления имели место в Акмолинской области, Тобольской и Алтайской губерниях. В начале осени 1917 г. для решения вопроса, связанного с недостатком денежных знаков, организации, заготавливавшие продовольствие, направляли в Петроград своих делегатов. Однако неизвестно, дал ли данный шаг какой-то положительный эффект в деле устранения денежного дефицита в сфере заготовки продовольствия [6, л. 95об–96об; 8, л. 36; 7, л. 107, 134]. Очевиднее всего, что последовавшие политические события в Петрограде привели к еще большему усугублению финансовой ситуации в отдаленных местностях Сибири.
Переломный момент отечественной истории, связанный с приходом к власти большевистского правительства в ноябре 1917 г., совпал с новым витком острого политического и социальноэкономического кризиса в стране. Экономические связи центра и провинции в этот период пришли в полный упадок. С началом активных боевых действий Гражданской войны финансовая ситуация в регионе еще более усугубилась.
Список литературы Проблемы правового регулирования денежного обращения на востоке России в период первой мировой войны
- Аничков, В. П. Екатеринбург -Владивосток (1917-1922)/В. П. Аничков. -М.: Русский путь, 1998.
- Государственный архив Курганской области (ГАКО). Ф. И-175. Оп. 2. Д. 1167.
- Денежное обращение в России: в 3 т./Банк России; [ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, А. В. Юров]. -М.: ИнтерКрим-пресс, 2010. -Том I: Исторические очерки: с древнейших времен до наших дней/Ю. П. Бокарев [и др.]. -462 с.
- Денисов, А. Е. Бумажные денежные знаки России 1769-1917: в 4 ч./А. Е Денисов. -М.: Информэлектро, 2004. -Ч. 3: Государственные бумажные денежные знаки 1898-1917 гг. -207 с.
- Исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 23. Оп. 1. Д. 138.
- Исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 595. Оп. 1. Д. 3.
- Исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 595. Оп. 1. Д. 3А.
- Исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 595. Оп. 1. Д. 44.
- Козлов, В. Ю. Боны и люди. Денежное обращение Урала: 1830-1933: Опыт нестандартного каталога/В. Ю. Козлов. -Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. -352 с.
- Местные денежные знаки и политика Министерства финансов//Вестн. финансов, промышленности и торговли (Омск). -1919. -№ 7.
- Покупательная способность рубля//Трудовая Сибирь (Омск). -1919. -10 июля.
- Преображенский, Е. А. Русский рубль за время войны и революции/Е. А. Преображенский//Крас. нива (Москва). -1922. -№ 2. -С. 242-257.
- Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг./Н. С. Романов; сост., предисл. и примеч. Н. В. Куликаускене. -Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. -560 с.
- Чагин, В. В. Денежные знаки лагерей военнопленных и частей Чехословацкого корпуса в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке (1916-1920)/В. В. Чагин. -Красноярск: Диграф, 2009. -68 с.
- Чащин, А. И. Сретенск. Страницы истории (Казачество. Купечество. Военнопленные. Денежные знаки)/А. И. Чащин. -Чита: Экспресс-издательство, 2009. -256 с.