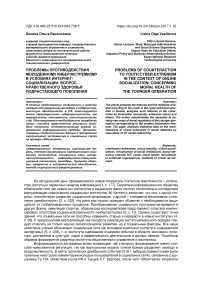Проблемы противодействия молодежному киберэкстремизму в условиях интернет-социализации: вопрос нравственного здоровья подрастающего поколения
Автор: Лисина Ольга Васильевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены особенности и методы латентного рекрутинга молодежи в киберэкстремистскую деятельность в РФ, анализируются такие характеристики киберпреступности, как аморальность, анонимность, антисоциальность и др. Обосновывается необходимость выработки новых способов нравственной регуляции молодого поколения, соответствующих уровню современной информационной свободы. Проанализированы статистические данные о проявлениях виртуального экстремизма в социальных сетях на примере «ВКонтакте».
Информационный экстремизм, виртуальная мораль, сетевая социализация, виртуализация социальных институтов, социальные сети, интернет-пространство, информационно-коммуникационные технологии, молодежь, духовное здоровье, рекрутинг в экстремистские объединения, методы виртуального рекрутирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14938769
IDR: 14938769 | УДК: 316.485.22:316.614:004.738.5
Текст научной статьи Проблемы противодействия молодежному киберэкстремизму в условиях интернет-социализации: вопрос нравственного здоровья подрастающего поколения
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
На сегодняшний день сформировался новый показатель статусной престижности – количество доступных первичных каналов информации [1, с. 177]. Теоретики информационного общества обозначили сети как новый тип институтов и выдвинули массу гипотез относительно последствий виртуализации классических социальных институтов. М. Кастельс заключал, что они, с одной стороны, способствуют развитию социальной организации, с другой – становятся механизмом «угнетения самобытности» [2, с. 232], что рано или поздно приводит общество к необходимости защищаться от глобализационных процессов. Преобразование социального пространства-времени в другую форму, симуляция структур, образов ряд исследователей представляют попыткой компенсировать отсутствие социальной реальности «киберпротезом» [3, с. 13]. Однако существует точка зрения, что социальные сети не способны «заменить старые и перерасти в новые институты» [4, с. 35]. К предпосылкам виртуализации как процесса симуляции институционального порядка следует относить не только научно-технологическое развитие, но и социальные факторы. Все чаще некоторые ученые обозначают социальные сети как ключевой компонент института «гражданской экспертизы» [5, с. 205], т. е. института оценивания социумом событий в области экономики, политики, достижений в культуре, науке и эффективности деятельности в данных сферах. Подобным образом формируется симулякр института общественного управления и экспертизы.
Информационный экстремизм вновь возвращает нас к вопросу формирования нового способа нравственной регуляции, так как виртуальная мораль тонкой гранью разделяет свободу и вседозволенность. В свете трагических декабрьских событий 2016 г. киберэкстремистскими были признаны некоторые комментарии молодых пользователей в социальных сетях, связанные с крушением Ту-154, убийством посла РФ в Турции А.Г. Карлова, после чего «ВКонтакте» запретила оставлять комментарии на страницах жертв. Большинство отечественных исследователей уже оценили деструктивную силу продуктов сетевого общества и пытаются определить приемлемые методы ликвидации данной интенции.
В качестве деструктивных социализирующих интенций социальных сетей выступают следующие:
-
1) образование новой формы отчуждения (сокращение доли реальных межличностных взаимодействий в пользу их аналога);
-
2) формирование нового способа нравственной регуляции (феномен «виртуальной морали» или, используя эвфемизм членов интернет-сообщества, «аморальной виртуали»);
-
3) фетишизация интернет-пространства (интернет как «всесильный актор» [6, с. 5], ярко выраженная интернет-зависимость, обращение к интернету в любой ситуации и, как подтверждение, появление сопутствующей терминологии, например «загугли», «заскайпись», «залей» и т. д.);
-
4) отсутствие критического осмысления множественных потоков информации (неумение «отфильтровывать» значимые сообщения, достоверные источники, восприятие только актуализированных в медиапространстве социальных проблем и «повесток дня», что приводит к дезинформированности);
-
5) ущерб другим видам деятельности и формам социальной активности;
-
6) модификация русского языка (преднамеренное и непреднамеренное изменение орфографии, толкования слов, их упрощение, сокращение, трансформация, появление интернет-сленга);
-
7) приобщение к девиантным видам поведения (сетевые сообщества с элементами девиации, ксенофобии, расизма, национализма, экстремизма и др.).
Деструктивно-социализирующие интенции соцмедиа связаны с тем, что в социальных сетях любая идея более концентрирована, локализирована и быстро находит свое место в определенных группах. К сожалению, с максимальной легкостью в экстремистские группировки рекрутируются молодые люди с активной гражданской позицией, что обосновывается искусной подменой патриотизма, еще чаще умеренного национализма, обозначаемого в современном дискурсе оксюмороном «здоровый» национализм, – идеологическими иллюзиями лжепатриотизма.
По официальной статистике МВД РФ за январь – июнь 2016 г. зарегистрировано 830 преступлений экстремистской направленности, что на 10,72 % больше, чем в 2015 г., и 1 313 преступлений террористического характера, что на 42,73 % больше зарегистрированных в 2015 г. [7]. Вместе с тем эксперты единогласно отмечают возрастание молодежного киберэкстремизма. Интеграция двух наиболее опасных основных тенденций современного экстремизма – молодежного и информационного – приводит к распространению экстремистских аксиологических установок и формированию благоприятной среды для его развития.
Под информационным, сетевым экстремизмом следует понимать «деятельность, осуществляемую с использованием информационных технологий, сопряженную с формами социально-психического и опосредованного физического деструктивного влияния, результатом которого является достижение публично нелегитимных и противоправных целей» [8, с. 11]. На сегодняшний день федеральный список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства юстиции РФ, включает 4 010 единиц, что почти в 2 раза больше, чем в 2013 г. За 2016 г., по подсчетам Freedom House, на 60,0 % увеличилось количество сайтов с экстремистским содержанием, впоследствии заблокированных. Число киберпреступлений, судя по возбужденным уголовным делам в отношении веб-активистов, возросло с 38 до 130 за последние три года.
Киберэкстремизм можно считать одним из подвидов «информационного экстремизма», который в свою очередь характеризуется следующими параметрами [9, с. 12]:
-
1) безличность, анонимность;
-
2) аморальность (фрагментарность функционирования духовно-нравственного пространства, как заключает Е.О. Кубякин, «это открывает простор для интенсивного развития экстремистской деятельности»);
-
3) радикальность;
-
4) антисоциальность (создает конфликтогенное пространство);
-
5) институциональность (на уровне маргинального пространства);
-
6) искаженность политико-правового мышления;
-
7) противоправность результатов.
Подчеркнем, что типичный киберэкстремист – это молодой человек в возрасте от 20 до 25 лет, преимущественно из неблагополучной семьи. Начальник отделения УФСБ РФ по Новосибирской области А. Седых отмечает, что на данный момент треть экстремистских преступлений совершается с помощью социальной сети «ВКонтакте», их количество увеличивается в геометрической прогрессии, очень остро стоит проблема противодействия подобному экстремизму: «Социальные сети, коммуникативное пространство развивается гораздо быстрее, чем аппарат контроля за ними…» [10]. «ВКонтакте» насчитывает более 380 млн пользователей, и неудивительно, что в данной сети распространяются экстремистские материалы – все отследить крайне сложно, но каждый год возбуждается все больше уголовных дел. Этот же факт подтверждает глава Управления МВД по региону П. Золотухин, который сообщает, что если в 2010 г. случаи экстремистских интер-нет-преступлений были единичны, то на сегодняшний день ситуация обратная: «Выкладываются видеоролики, ранее признанные экстремистскими материалы, это могут быть брошюры, высказывания, создаются экстремистские группы» [11]. При этом по оценкам иностранных экспертов из правозащитной организации Freedom House, проанализировавшей онлайн-тренды 60 стран, интернет-пространство РФ является лишь частично свободным по сравнению с показателями предыдущих годов: «В рейтинге свободы Россия заняла 41-е место из 100» [12]. Снижение уровня свободы в интернете связано с новыми законами о фильтрации веб-контента.
Распространение киберэкстремизма в молодежной среде связано с появлением новых, все более изощренных способов вербовки. Усугубляют положение простота и доступность виртуальной формы рекрутирования, в особенности через социальные сети. Благодаря возможности свободно и анонимно контактировать в интернет-пространстве, по словам Д.А. Нечитайло, «за последние 10 лет было подготовлено 120 известных экстремистов». Посредством мониторинга виртуального пространства были выявлены следующие методы вербовки молодежи в социальных сетях (на примере «ВКонтакте»):
-
1. Метод воронки – вовлечение в «раскрученные» группы с большим количеством реальных и «фейковых» участников, поддерживающих данную идеологию, т. е. акцентируется единство взглядов, что подтверждает наши изыскания относительно роли проблем с идентичностью.
-
2. Контекстный метод – вовлечение в латентные группы, привлекающие внимание с помощью интересного, социально значимого контекста и преследующие якобы другие – легитимные, благородные – цели, например благотворительность, акции социальной защиты, акции протестного характера – митинги против абортов, курения, наркотиков, а также акции в поддержку чего-либо или мероприятия, посвященные историческим событиям.
-
3. Метод «закрытого клуба», где экстремистская ячейка представлена как некая элитарная группа, культивирующая принадлежность общине, якобы обладающая уникальными истинными знаниями и наделяющая своих членов фантомной властью для разного рода деятельности, направленной на глобальные социальные изменения.
-
4. Метод мотивационного рекрутирования, главный принцип которого – спровоцировать инициативность, активность, максимально описать выгоды, возможности самоактуализации, что приводит к трансферу миссии группы в личные цели.
-
5. Метод «холодных контактов» с использованием всевозможных способов заинтересовать и ненавязчиво привлечь к экстремистской деятельности.
-
6. Метод «квазипатриотизма» применяют экстремистские организации, обозначающие себя как умеренное, чаще всего патриотическое, течение.
-
7. Метод «латентный» в основном используется не в чистом виде, а в комплексе с другими и предполагает первичное обращение через объявления, сообщения в «личку» (рассылки) полускрытого характера, не содержащие название, истинные цели группы, например: «ищем тех, кому небезразлична такая-то проблема». Экстремистская организация видится молодым людям как средство самореализации.
Таким образом, молодежный экстремизм в современных условиях характеризуется повышенным уровнем социальной дезадаптации личности, диффузностью идентичности, распространением информационно-коммуникативных технологий и требует рационального сокращения неконтролируемого пространства социализации. Подчеркнем, что чаще всего молодежный экстремизм в РФ – это конфликт стереотипов и идей. Профилактика молодежного киберэкстремизма должна основываться на усилении роли традиционных институтов социализации, поддержании новых институтов морали и снижении деструктивного потенциала молодежных объединений.
Ссылки:
(дата обращения:
Список литературы Проблемы противодействия молодежному киберэкстремизму в условиях интернет-социализации: вопрос нравственного здоровья подрастающего поколения
- Данилова М.А. Интернет в повседневной жизни студенческой молодежи//Инновационное общество: национальная безопасность России в сценариях столкновения цивилизаций: сб. науч. ст. всерос. науч.-практ. конф. Саратов, 2008. С. 176-178.
- Кастельс М. Становление общества сетевых структур//Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. М., 1999.
- Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб., 2000. 96 с.
- Гудков Л., Дубин Б. Институциональные дефициты как проблема постсоветского общества//Мониторинг общественного мнения. 2003. № 3 (65). С. 33-52.
- Славин Б.Б. «Сетевые революции», или новая социализация общества//Казанская наука. 2011. № 3. С. 204-206.
- Данилова М.А. Интернет-социализация студенческой молодежи: специфика мотивации сетевого поведения: автореф. дис.. канд. социол. наук. Саратов, 2009. 18 с.
- Состояние преступности в РФ за 2016 г. . URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 14.12.2016).
- Упорников Р.В. Политико-правовые технологии противодействия информационному экстремизму в России: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2007. С. 11.
- Новосибирская полиция и ФСБ заявили о росте экстремизма «ВКонтакте» . URL: http://www.rocit.ru/articles/novosibirskaya-politsiya-i-fsb-zayavili-o-roste-ekstremizma-vkontakte (дата обращения: 11.12.2016).
- Полиция и ФСБ заявили о росте экстремизма в интернете . URL: http://news.ngs.ru/more/1417048/(дата обращения: 15.12.2016).
- Ошаров Р. Россия с «частично свободным» Интернетом . URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/internet-freedom-in-the-world/1762425.html (дата обращения: 15.12.2016).