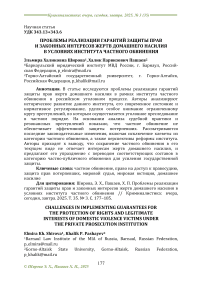Проблемы реализации гарантий защиты прав и законных интересов жертв домашнего насилия в условиях института частного обвинения
Автор: Широва Э.Х., Пашаев Х.П.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (35), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются проблемы реализации гарантий защиты прав жертв домашнего насилия в рамках института частного обвинения в российском уголовном процессе. Авторы анализируют историческое развитие данного института, его современное состояние и нормативное регулирование, уделяя особое внимание ограниченному кругу преступлений, по которым осуществляется уголовное преследование в частном порядке. На основании анализа судебной практики и резонансных преступлений показано, что частное обвинение не обеспечивает эффективной защиты потерпевших. Рассматриваются последние законодательные изменения, включая исключение клеветы из категории частного обвинения, а также перспективы реформы института. Авторы приходят к выводу, что сохранение частного обвинения в его текущем виде не отвечает интересам жертв домашнего насилия, и предлагают его упразднение с переводом соответствующих составов в категорию частно-публичного обвинения для усиления государственной защиты.
Частное обвинение, право на доступ к правосудию, защита прав потерпевших, мировой судья, мировая юстиция, домашнее насилие
Короткий адрес: https://sciup.org/143184948
IDR: 143184948 | УДК: 343.13+343.6
Текст научной статьи Проблемы реализации гарантий защиты прав и законных интересов жертв домашнего насилия в условиях института частного обвинения
Институт частного обвинения является проявлением признака сохранившейся в современном уголовном судопроизводстве исторически сложившейся частно-исковой формы (типа) уголовного процесса. Это позволяет утверждать, что российское уголовное судопроизводство соответствует смешанному, а не состязательному типу, как заявлено в статье 123 Конституции Российской Федерации1. Причем, продолжая существовать в смешанной форме, при наличии института мировой юстиции российский уголов- today, tomorrow. 2025, vol. 35 no. 3, pp.
ный процесс следует признать окончательно сложившимся, достаточно уникальным и самобытным, оставшимся верным национальной правовой доктрине и многолетним правовым традициям российского общества.
Стоит напомнить о том, что частное обвинение – одна из старейших форм уголовного преследования. Она укоренилась в отечественном уголовном судопроизводстве с начала Судебной реформы 1864 г. будучи предназначенной для отправления правосудия, в том числе по уголовным делам, не представляющим большой сложности ни с фактической, ни с правовой точки зрения. Примечательно, что Устав уголовного судопроизводства 1864 г. относил к делам частного обвинения и более тяжкие преступления, если они совершались между супругами или родителями и детьми, предусматривая процедуру их возбуждения только по заявлению потерпевших. Такие дела рассматривались мировыми судьями и могли быть прекращены в связи с примирением сторон [1, с. 1021].
Концепция судебной реформы легла в основу разработки Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, принятого в 2001 г. [2, с. 4]. В ходе исторического развития сформировалась ключевая парадигма современного частного обвинения – защита прав пострадавших от преступлений, не представляющих существенной общественной опасности, поскольку они затрагивают прежде всего частные интересы. Уникальность института заключается в том, что уголовное преследование в частном порядке направлено не на назначение виновному наказания при наличии к тому оснований, а на разрешение конфликта между потерпевшим и обвиняемым, что часто приводит к прекращению дела.
Еще одна особенность – возможность потерпевшего напрямую обратиться в суд, минуя стадию предварительного расследования (за исключением случаев, когда жертва находится в зависимом или беспомощном состоянии). Частный обвинитель не связан позицией государственных органов, а судьба дела полностью зависит от воли сторон.
Основная часть
Круг преступлений, по которым могут быть возбуждены уголовные дела частного обвинения, крайне узок. До недавнего времени к ним относились: умышленное причинение легкого вреда здоровью
(ч. 1 ст. 115 УК Р Ф2) , нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ч. 1 ст. 116. 1 УК РФ), клевета (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ).
Однако по инициативе Верховного суда Российской Федерации 6 июня 2025 года вступившим в силу Федеральным законом от 7 июня 2025 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»3 в ч. 2 ст. 20 УПК РФ4 были внесены очередные поправки, исключившие клевету (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ): из категории дел частного обвинения перешли в разряд частно-публичного. Такая необходимость, как отмечают разработчики закона, связана с тем, что при рассмотрении мировыми судьями в прежнем порядке частного обвинения клеветы без отягчающих обстоятельств, впоследствии приводило к неправильному распределению бремени доказывания, что влекло за собой ущемление прав обеих сто- рон5. По мнению отдельных экспертов, этот состав преступления стал единственным, по которому оправдательных приговоров постановлено больше, чем обвинительных6. Подобные изменения не новы: в 2011 году клевета и оскорбление были декриминализованы, но уже через год понятие «клевета» вновь возвращено в УК РФ. Позже ст. 130 УК РФ (оскорбление) также была декриминализована, а ее место заняла ч. 1 ст. 116 УК РФ. Эти корректировки свидетельствуют о незавершенности формирования института частного обвинения: законодатель ищет баланс между частными и публичными интересами, не нарушая базовых принципов уголовного процесса, прямо закрепленных в главе 2 УПК РФ.
Таким образом, в числе дел частного обвинения в ч. 2 ст. 20 УПК РФ остались такие преступления, как: ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).
Как показывает изученная практика, перечисленные преступления чаще всего совершаются на почве конфликтов межличностного характера и в основном в сфере внутрисемейных отношений. Основными жертвами домашнего насилия становятся женщины, дети и престарелые граждане. С учетом того, что анализируемый институт имеет ряд специфических особенностей, не свойственных для публичных форм уголовного преследования, возникает вопрос о том, насколько он эффективен в части реализации гарантий прав на защиту и законных интересов жертв, потерпевших от домашнего насилия? Консорциум женских неправительственных организаций выяснил, что за 2022 и 2023 годы в результате домашнего насилия в России погибло не менее 2 284 женщин, 93 % из них были убиты своими партнера-ми7.
Вот одни из тех резонансных случаев, о которых стало известно лишь впоследствии.
Дело Маргариты Грачевой – женщины, лишившейся кистей рук из-за действий мужа, ставшей жертвой домашнего насилия. Из обстоятельств произошедших событий следует, что ранее М. Грачева обращалась в полицию, но столкнулась с равнодушием со стороны органов дознания, затянувших сроки предварительной проверки сообщения о преступлении и не предпринявших вовремя никаких мер, ограничившись лишь беседой с потенциальным злоумышленником, что привело к непоправимой трагеди и8.
История Ольги Рыбаковой, получившая огласку в социальных сетях, говорит об издевательствах со стороны мужа и многочисленных отказах в возбуждении уголовного дела по данным фактам. Даже после прилюдного избиения, которое зафиксировала видеокамера, сотрудники полиции не приняли заявление от потерпевшей, мотивируя тем, что семейный конфликт раз-рещится. И хотя позднее все же сообщение о преступлении было зарегистрировано, в возбуждении уголовного дела отказали, отпраив потерпевшую в суд9.
Схожая ситуация сложилась и в деле Ольги Ощепковой, в котором имели место регулярные побои без видимых следов, что затрудняло привлечение к ответственности ее бывшего супруга. Результатом обращения с заявлением по факту нанесения побоев и иного имевшего места причинения вреда здоровью Ощепковой также стало решение об отказе в возбуждении уголовного дел а10.
Громкое дело сестер Хачатурян, подвергавшихся длительным избиениям и сексуальному насилию со стороны отца, посмертно признанного виновны м11.
Во всех случаях в числе схожих остальных прослеживается общая проблема: стереотипное мышление правоохранителей, считающих, что жертвы «передумают» или что домашнее насилие не представляет серьезной угрозы. Кроме того, как показал проведенный социологический опрос и интервьюирование мировых судей, многие пострадавшие вынужденные претерпевать домашнее насилие, не осведомлены о возможности непосредственного обращения в суд еще на начальных этапах, а именно при первоначальных проявлениях насилия с целью привлечения виновного к уголовной ответственности, минуя территориальные органы дознания12. Изложенное находит свое подтверждение в результатах анализа данных о деятельности мировых судей за последние три года. В количественном соотношении возбужденных по заявлениям, поступившим в суд непосредственно от граждан и переданным из других органов, составило в: 2022 г. – 4 743, 2023 г. – 4 331, 2024 г. – 3 918 дел частного обвинения, из числа которых обвинительных приговоров постановлено: в 2022 г. – 1 245; 2023 г. – 1 212; 2024 г. – 1 110, прекращено: в 2022 г. – 2 474, 2023 г. – 2 126, 2024 г. – 1 935 уголовных дел13. Обобщение статистических сведений позволило выявить общую тенденцию снижения количества возбужденных уголовных дел частного обвинения по заявлениям, поступившим в суд от граждан и переданным из других органов, а также постановленных приговоров. Одновременно уменьшается и количество прекращенных уголовных дел.
Все сказанное приводит к тому, что подобные преступления начинают характеризоваться высокой степенью латентности.
Хотя в соответствии с действующим законодательством частное обвинение позволяет потерпевшему активно участвовать в процессе, оно возлагает на него непосильную нагрузку: необходимость самостоятельного сбора доказательств; подготовку процессуальных документов; участие в судебных заседаниях без юридической поддержки. Это может быть особенно сложно для людей, не имеющих юридического образования и ограниченных в финансовых ресурсах. Так, по мнению В. Н. Курченко, «потерпевший должен привести мотив нанесения побоев: в процессе ссоры, на почве личных неприязненных отношений. В противном случае может оказаться, что деяние совершено, в частности, из хулиганских побуждений, а тогда преследование должно осуществляться в порядке публичного обвинения» [3, с. 105]. Нередко мировой судья отказывает в принятии заявления по причине недостаточной информации о лице, привлекаемом к уголовной ответственности.
К примеру, предметом одной из апелляционных жалоб послужило обращение частного обвинителя о неоднократном отказе мировым судьей в принятии заявления и в последнем случае – по мотивам того, что он не исполнил требования в части изложения полных данных о лице, привлекаемом к уголовной ответственности (дата и место рождения). Как оказалось, содержащихся в заявлении сведений о лице, которое, по его мнению, совершило преступление, а именно: фамилии, имени, отчества и его места работы, а также места жительства – недостаточно. При рассмотрении в апел- ляционном порядке жалобы суд в своем решении сослался на позицию Конституционного Суда Российской Федерации о том, что п. 4 ч. 5 ст. 318 УПК РФ лишь устанавливает одно из требований к содержанию заявления по делу частного обвинения и не предполагает указания в заявлении данных о документах, удостоверяющих личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности, которыми не располагают (не могут и не должны располагать) потерпевший или его законный представитель, в результате чего отменил постановление мирового судьи об отказе в принятии к производству заявления в порядке частного обвинения14.
В большей степени положение дел усугубляется, когда в заявлении ставится вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ. В таком случае обязательным условием является указание сведений о привлечении обвиняемого к административной ответственности за совершение аналогичного деяния. Однако получить данные сведения потерпевшему, очевидно, будет затруднительно. Разумным подходом при указанных обстоятельствах служит позиция Костромского областного суда, на которую в своей работе ссылается П. М. Титов: «предлагается мировым судьям выяснять у потерпевшего, знает ли тот о привлечении обвиняемого к административной ответственности. Если потерпевший подтвердит это обстоятельство, мировой судья должен оказать содействие в истребовании процессуального решения без возвращения заявления потерпевшему» [4, с. 68]. Казалось бы, при всей логичности такого подхода, как показало наше исследование, судебная практика во всех регионах складывается по-разному, а значит, не все судьи действуют аналогичным образом.
Остроту приобретают вопросы, связанные с подсудностью дел о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, переданных в 2018 г. из юрисдикции мировых судей в федеральные районные суды, чтобы исключить предвзятость. При этом, решая одну проблему, разработчики закона оставили без внимания порядок возбуждения и рассмотрения уголовных дел, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ. В результате это привело к новым сложностям: районные суды зачастую отказываются принимать, поступившие заявления о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, ссылаясь на различные аргументы. Показательно в этом отношении решение Конституционного Суда Российской Федерации по жалобе Баскаковой15. Заявителю понадобилось три года, чтобы добиться доступа к правосудию, защищая себя от побоев со стороны бывшего супруга, с которым она проживает в одной квартире и который ранее уже был подвергнут административному нака- занию. Все три года гр. Баскакова искала защиты не только в суде, но и обращалась с заявлением в органы дознания, на чем настаивал суд, однако в возбуждении уголовного дела каждый раз ей было отказано. Лишь после обращения в Конституционный Суд Российской Федерации было подтверждено, что районные суды не вправе отказывать в принятии заявлений по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ. Одновременно с тем высшая судебная инстанция не исключила право федерального законодателя уточнить нормативный порядок рассмотрения дел частного обвинения.
В 2025 г. на основании упомянутого Постановления Конституционного Суда Российской Федерации в законодательный орган был внесен законопроект, направленный на унификацию порядка рассмотрения уголовных дел частного обвинения мировыми и районными (гарнизонными военными) судами, порядка обжалования судебных решений мирового судьи и иных судов общей юрисдикции, а также на исключение дублирующих норм в УПК РФ и переименование соответствующих разделов кодекса, а именно наименование раздела XV УПК РФ «Особенности производства у мирового судьи» предложено заменить на «Особенности производства по уголовным делам частного обвинения». Также планируется переименовать гл. 41. Предложена новая редакция ч. 5 ст. 319 УПК РФ, согласно которой судья будет разъяснять сторонам возможность примирения в случае поступления от них заявлений. Производство по делу будет прекращено на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ, за исключением производства по делам, возбужденным властными субъектами уголовнопроцессуальной юрисдикции в со- ответствии с ч. 4 ст. 147 УПК РФ. Помимо остального ряда изменений, предложено признать утратившими силу ст. 322 и 322 УПК РФ16.
Выводы и заключение
Хотя эти изменения восприняты положительно, они не решают ключевой проблемы – отсутствия реальных механизмов защиты жертв домашнего насилия. Анализируемый законопроект следует признать техническим откликом разработчиков закона на вышеупомянутое решение Конституционного Суда Российской Федерации, направленного на стандартизацию процедуры рассмотрения дел частного обвинения различными судами и стремлением сохранить институт частного обвинения. Однако рассчитывать потерпевшим на глобальные перемены в части реализации принципа неотвратимости ответственности с обеспечением своевременного и объективного наказания лиц, совершивших домашнее насилие, преждевременно. Можно предположить, что ситуация останется прежней, когда жертвы бытового насилия будут продолжать искать помощи у органов дознания. В свою очередь, лишь единицы обратившихся в районный суд потерпевших вновь столкнутся с рядом трудностей, которые служат препятствием для подачи заявлений о преступлении и возложенной на них обязанностью по сбору доказательств, так как они не наделены публичными полномочиями и в большинстве не являются профессиональными юристами.
Еще в 2020 г. экс-председатель Верховного Суда Российской Феде-раци В. Лебедев, доводя о планах по реформе УПК РФ, предлагал отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознани е17, но инициатива не была реализована. Вместо этого из категории дел частного обвинения исключена клевета (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), отнесенная к категории уголовных дел частнопубличного обвинения. В этой связи возникает риторический вопрос о том, насколько в процессуальном измерении побои и клевета – деяния одного порядка? Думается, что разница очевидна.
В завершение отметим, что институт частного обвинения, несмотря на историческую значимость, не обеспечивает защиты жертв домашнего насилия. Единственным разумным решением представляется его упразднение с переводом соответствующих составов в категорию дел частнопубличного обвинения, что позволит усилить роль государства в защите пострадавших.