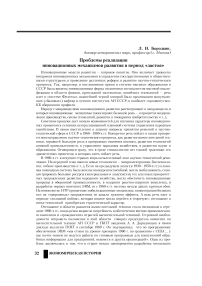Проблемы реализации инновационных механизмов развития в период "застоя"
Автор: Бородкин Леонид Иосифович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
В рамках заседания Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории в г. Звенигороде 4-6 февраля 2011 г. состоялся круглый стол на тему «Инновационные механизмы в технологическом и экономическом развитии России в XVIII-ХХ вв.»
Модернизация, инновации, экономическая история, эвм
Короткий адрес: https://sciup.org/14723569
IDR: 14723569
Текст краткого сообщения Проблемы реализации инновационных механизмов развития в период "застоя"
Инновационные модели развития — широкое понятие. Оно включает процессы внедрения инновационных механизмов в управление государственными и общественными структурами, в проведение различных реформ, в развитие научно-технического прогресса. Так, например, в послевоенное время в системе высшего образования в СССР была введена инновационная форма подготовки специалистов высокой квалификации в области физики, прикладной математики, новейших технологий — речь идет о «системе Физтеха», важнейшей чертой которой была организация выпускающих («базовых») кафедр в лучших институтах АН СССР, в наиболее «продвинутых» КБ оборонного профиля.
Наряду с макромоделями инновационного развития рассматривают и микромодели, в которых инновационные механизмы также играют большую роль — в процессах модернизации производства, смены технологий, развития и поощрения изобретательства и т. д.
Советское прошлое дает немало возможностей для изучения характера инновационных процессов в условиях централизованной плановой системы управления народным хозяйством. В своем выступлении я затрону вопросы принятия решений в научнотехнической сфере в СССР в 1960—1980-х гг. Конкретно речь пойдет о таком приоритетном направлении научно-технического прогресса, как развитие вычислительной техники, игравшей большую роль в программах освоения космоса, развития технологий атомной промышленности, в управлении народным хозяйством, в развитии науки и образования. Оговоримся сразу, что в среде специалистов нет единой трактовки тех драматичных процессов, о которых здесь пойдет речь.
В 1960-х гг. в ведущих странах мира начался новый этап научно-технической революции. На передний план вышли новые технологии — микроэлектроника, биотехнологии, гибкие производства и т. д. Если на предыдущем этапе (в 1930—1950-х гг.) плановая командная система была вполне конкурентоспособной, могла мобилизовать, сконцентрировать большие ресурсы (материальные и людские) на тех или иных приоритетных направлениях развития народного хозяйства, могла обеспечить инновационные прорывы в оборонной промышленности, в создании ракетно-ядерного комплекса, в разработке первых советских ЭВМ, то с 1960-х гг. система начала давать крупные сбои. На новом витке НТР привычные мобилизационные механизмы, концентрация больших сил на «прорывных» направлениях не давали нужного эффекта. А ведь речь идет о периоде «холодной войны», которая вполне могла перейти в «горячую»; отставание в гонке технологий приобретало стратегический характер.
Отставание в области развития вычислительной техники стало очевидным к середине 1960-х гг., когда резко возросла потребность в обеспечении военно-промышленного комплекса и «гражданских» отраслей вычислительной техникой. О срочной необходимости исправить положение в этой области говорил председатель комиссии по вычислительной технике АН СССР и ГКНТ академик А. А. Дородницын в своем докладе коллегии ГКНТ в сентябре 1969 г. Он подчеркивал, что по программному обеспечению ЭВМ «мы стоим на уровне примерно 1960 г. по сравнению с США ... у нас почти совсем не ведутся работы по типовым программам для комплексной обработки информации для предприятий, ведомств и других организаций». Одна из проблем заключалась в том, что в стране велась одновременно разработка нескольких линий ЭВМ, различавшихся как аппаратным, так и программным обеспечением1. Однако на новом этапе требовалась унификация ЭВМ для широкого внедрения их во все отрасли народного хозяйства, для организации вычислительных центров. И вот здесь столкнулись интересы различных ведомств, различных коллективов разработчиков вычислительной техники. Проблема ведомственных интересов в разработке инновационных «мегапроектов» в развитии советских ЭВМ имеет несколько граней. Эта проблема отражена в ряде аналитических материалов В. М. Глушкова, Б. Н. Малиновского В. В. Пржиялковского, Ю. В. Ревича и др.
Еще в 1959 г. А. И. Китов, известный разработчик ЭВМ, начальник головного ВЦ Министерства обороны СССР, выдвинул идею о создании единой автоматизированной системы управления для Вооруженных Сил и народного хозяйства страны на базе общей сети вычислительных центров, создаваемых и обслуживаемых Министерством обороны. Концентрация ЭВМ в мощных вычислительных центрах, обеспечение их надежной эксплуатации создали бы возможности сократить сложившееся в этой области большое отставание от США. А. И. Китов представил развернутый доклад в ЦК КПСС, рассмотренный специально созданной комиссией Министерства обороны. Резкая критика состояния дел в Министерстве обороны с внедрением ЭВМ, содержавшаяся в докладе, предопределила отрицательное отношение к нему. Как отмечается в работах по истории советской вычислительной техники, более существенным фактором было осознание работниками аппарата ЦК КПСС и верхних эшелонов административной власти (в частности, Министерства обороны) опасности, что предлагавшаяся перестройка управления приведет к устранению их от рычагов власти. В результате А. И. Китов (между прочим, участник ВОВ, полковник) был исключен из партии и лишен должности2.
Независимо от А. И. Китова предложения такого рода несколько позже развивались академиком В. М. Глушковым, директором Института кибернетики АН УССР. Он представил «верхам» проект Общегосударственной автоматизированной системы управления советской экономикой (ОГАС) в 1963 г. История его реализации, насчитывающая более 20 лет, не завершилась успехом. Одна из причин трудностей и проблем в реализации этого проекта была охарактеризована Глушковым так: «Дело в том, что у Королева или Курчатова3 был шеф со стороны Политбюро, и они могли прийти к нему и сразу решить любой вопрос. Наша беда была в том, что по нашей работе такое лицо отсутствовало. А вопросы были здесь более сложные, потому что затрагивали политику, и любая ошибка могла иметь трагические последствия. Поэтому тем более была важна связь с кем-то из членов Политбюро». Таким «шефом ОГАСа» на время стал А. Н. Косыгин — после того как в конце 1960-х годов в ЦК КПСС и Совмине появилась информация о том, что американцы реализовали проект компьютерной сети ARPANET4. Однако после кончины А. Н. Косыгина ОГАС потерял покровителя...
Вернемся к проблеме унификации парка ЭВМ в стране, которую можно назвать первичной по отношению к проблеме создания автоматизированных систем управления (АСУ). Сложившаяся к середине 1960-х гг. ситуация с разработкой вычислительной техники в стране требовала принятия решений на самом «верху». Отставание от Запада на этом приоритетном направлении было «драматичным, потому что суммарный годовой выпуск всех типов ЭВМ (а их насчитывалось более 20) в СССР составлял всего около тысячи штук», и «в СССР тогда было всего 1,5 тыс. программистов, а в США — 50 тыс.»5. Примерно таким же было и соотношение количества ЭВМ в обеих странах. Драматичным был и процесс принятия соответствующих решений — дилемма сводилась к вопросу: проводить ли унификацию производства ЭВМ и их массового выпуска в стране на базе одной из советских ЭВМ или переходить на «линейку» зарубежных машин. Второй вариант одержал верх, и далее вопрос свелся к выбору соответствующей «линейки». Как отмечал И. С. Брук, один из наиболее авторитетных разработчиков советских ЭВМ, «наилучшим и экономичным по затрате времени решением проблемы освоения того, что уже достигнуто за рубежом, было бы использование лицензий — готовой документации и технологии. В противном случае — трудно устранимое отставание». Дискуссия специалистов в основном сводилась к вопросу о том, возможна ли реализация архитектуры американской машины IBM-360 в условиях жесткого эмбарго времен «холодной войны» (т. е. без соответствующей документации и образцов), а если нет — то не стоит тратить силы на ее точное копирование, лучше провести усовершенствование оригинала. Окончательное решение было принято комиссией по ВТ АН СССР и ГКНТ от 27 января 1967 г., предложившей принять для создания единой системы ЭВМ (ЕС ЭВМ) архитектуру IBM-360.
Это решение, одобренное затем на правительственном уровне, вызвало противоречивую реакцию в среде разработчиков отечественных ЭВМ. Так, спустя много лет Б. А. Бабаян, ученик академика С. А. Лебедева («отца» БЭСМ-6, резко выступавшего против копирования американской системы IBM-360), так охарактеризовал принятое решение: «С точки зрения архитектуры ЭВМ это, безусловно, была ошибка, но хозяйственно, может быть, это и правильно. Единственно, что я знаю, все думали, что хлынет матобеспечение, а оно не хлынуло. Воровали же программное обеспечение, и версии операционной системы там не совпадали с версиями языков, и было много проблем, потому что все было несовместимо. А вот с точки зрения существа дела, я помню, что до того как ЕС ЭВМ начали делать, была масса коллективов, которые двигались мощно вперед, хотя и был большой перебор разных архитектур, но этот силовой переход на IBM все остановил, всех загнали в ЕС ЭВМ»6. Как и Лебедев, ряд известных советских конструкторов ЭВМ были сторонниками отечественной линии развития вычислительной техники. При этом некоторые из них ориентировались на сотрудничество с европейскими (в основном английскими) фирмами, которые не хотели мириться с монополией США на рынке сбыта ЭВМ. Выбор в качестве прототипа системы IBM-360 создал немало трудностей: на продажу этих машин в нашу страну был наложен запрет, имевшаяся же у наших специалистов документация по системе программного обеспечения IBM-360 была неполной, так как поступала не от фирмы-производителя, а через посредников. Однако «верхи» считали, что сделанный выбор позволял использовать западное программное обеспечение в условиях неразвитости отечественной «индустрии программирования».
По мнению ряда специалистов, результат административного решения «был плачевен». Созданная единая система ЭВМ, воплотившая устаревшие идеи, заложенные в IBM-360, не оправдала затрат и возлагавшихся на нее надежд. Большинство из более чем 13 тысяч выпущенных и еще не исчерпавших технический ресурс ЭВМ к началу 2000-х гг. уже не использовались, а эффект от использования оставшихся в эксплуатации был меньше требуемых при этом расходов. По оценке одного из конструкторов советских ЭВМ Б. И. Рамеева, к моменту распада СССР 99 % отечественного парка ЭВМ отставало на 10—25 лет от мирового уровня.
Неудивительно, что неповоротливая система принятия решений в области инновационных высокотехнологичных «мегапроектов», основанная на централизованных механизмах финансирования НИОКР, предопределила и отставание отечественного производства микрокомпьютерной техники, доминирующей сегодня в структуре парка вычислительной техники7. Как показывает опыт стран, лидирующих на этом приоритетном направлении, инновационное развитие требует более гибкой системы сочетания фундаментальной и прикладной науки, высокотехнологичного производства, создающего ниши как для крупных компаний, так и для небольших венчурных фирм. Важное значение имеют также механизмы финансирования, включающие госзаказ, частные инвестиции и позволяющие выбирать оптимальные решения, иногда связанные с риском или требующие применения метода проб и ошибок. Однако гораздо более высокие риски создают административные решения, основанные на безальтернативных источниках финансирования.
Нынешняя ситуация пока не вселяет оптимизма. Однако рассмотренный выше исторический опыт может приниматься во внимание в процессе выбора пути инновационного развития, создающего альтернативы сформировавшейся траектории «великой сырьевой державы».
Список литературы Проблемы реализации инновационных механизмов развития в период "застоя"
- PCWeek. 22.08.2000.
- Ершовские лекции. Новосибирск. 2009.