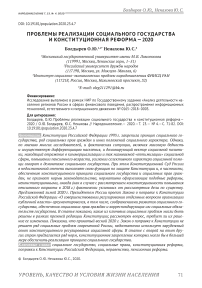Проблемы реализации социального государства и конституционная реформа - 2020
Автор: Болдырев Олег Юрьевич, Ненахова Юлия Сергеевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения
Статья в выпуске: 4 т.23, 2020 года.
Бесплатный доступ
Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила принцип социального государства, ряд социальных прав граждан и иных положений социального характера. Однако, по мнению многих исследователей, и фактическая ситуация, включая массовую бедность и имущественную дифференциацию населения, и доминирующий вектор социальной политики, находящий отражение в коммерциализации и так называемой «оптимизации» социальной сферы, повышении пенсионного возраста, усилении селективного характера социальной помощи говорят о демонтаже социального государства. При этом Конституционный Суд России в недостаточной степени выполняет свою функцию по защите Конституции и, в частности, обеспечению конституционного принципа социального государства и социальных прав граждан, не признает нормы законодательства, нормативно оформляющие подобные реформы, неконституционными, иногда (как в случае с рассмотрением конституционности повышения пенсионного возраста в 2018 г.) фактически уклоняясь от рассмотрения дела по существу. Предложенный зимой 2020 г. Президентом России проект Закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» аргументировался, в том числе, соображениями развития социального государства, обеспечения социальных прав граждан и корреспондирующих им социальных обязательств государства. В статье показано, какие из ключевых социальных проблем могли быть решены в рамках прежней редакции Конституции; рассмотрен вопрос, требует ли их решение ее изменения. Показано, что принятый весной 2020 г. Закон о поправке к Конституции не решает ряд социальных проблем современной России, недостаточно использует зарубежный опыт конституционного регулирования социальной сферы. В статье с опорой на опыт других стран предлагается ряд норм, конституционное закрепление которых могло бы в большей мере обеспечить реализацию принципа социального государства.
Социальное государство, социальные права, конституционная реформа, поправки к конституции российской федерации, неравенство, пенсионная реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/143173665
IDR: 143173665 | DOI: 10.19181/population.2020.23.4.7
Текст научной статьи Проблемы реализации социального государства и конституционная реформа - 2020
социальное государство, социальные права, конституционная реформа,
поправки к Конституции Российской Федерации, неравенство, пенсионная реформа.
Предложенный зимой 2020 г. Президентом России проект Закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» аргументировался, кроме других причин, соображениями развития социального государства, обеспечения социальных прав граждан и корреспондирующих им социальных обязательств го-сударства1. Учитывая это, а также то, что Конституция выступает правовой основой не только политической, но и социально-экономической системы, важно проанализировать, какие из ключевых социальных проблем могли быть решены в рамках прежней редакции Конституции, требовало ли их решение ее изменения. И, если да, то решает ли их принятый Закон о поправке к Конституции России от 14.03.2020 № 1-ФКЗ (далее — Поправки), а если нет, то какие изменения Конституции могли бы приблизить к их решению. Здесь полезен как наш исторический опыт — советские конституции во многом обогнали западные в части закрепления социально-экономических прав [1], так и зарубежный, поскольку «одна из главных тенденций развития конституционного права в мире — это <…> его социализация <…> конституционное право стремится урегулировать в интересах человека … его социальные отношения, базой которых служит экономика» [2. С. 86].
Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 7 провозгласила Россию социальным государством, а также закрепила в главе 2 ряд социальных прав и свобод: свободу труда — «право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы», право на отдых (ст. 37), право на «социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» (ст. 39), право на жилище, в том числе, на получение его «бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов» малоимущими и иными указанными в законе гражданами, нуждающимися в жилище (ст. 40), право на охрану здоровья и медицинскую помощь, причем, с указанием, что «медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» (ст. 41), право на образование, в том числе, «общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях», право на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии (ст. 43) и так далее. Содержит Конституция России и иные социальные положения, например, о защите материнства и детства (ст. 38).
В 1993 г. эти положения были той «сладкой пилюлей», без которой президентской стороне, возможно, не удалось бы добиться принятия действующей Конституции [3] –готовность населения терпеть «шоковую терапию» обусловливалась тем, что в качестве цели обществу указывалось «социальное рыночное хозяйство» (так называемые «шведская модель» и «немецкое экономическое чудо»), а не «дикий капитализм» образца XIX века [4. С. 26–27; 5. С. 37]. В то же время, не только радикальные реформы начала 1990-х гг., но и последующий социально-экономический курс, в частности, отказ (при чрезвычайно высоком неравенстве) от прогрессивного налогообложения доходов (а учитывая порядок отчислений в социальные фонды — фактически регрессивное налогообложение); перевод здравоохранения и образования из государственных функций в «услуги», ограничение доступа к ним в рамках коммерциализации и «оптимизации» (заложенных законом № 83-ФЗ 2 и принятием Россией обязательств в рамках ВТО в части либерализации социальной сферы [6]), последняя пенсионная реформа и т.п. ставят вопрос о соответствии реалий конституционному принципу социального государства [7; 8].
Существовали ли юридические возможности для развития социального государства (или, как минимум, предотвращения его демонтажа) в рамках действовавшей редакции Конституции России? Конечно. Во-первых, возможности реализации иной социально-экономической политики и ее нормативно-правового оформления в рамках отраслевого законодательства (налогового, бюджетного права, права социального обеспечения) многократно описывались специалистами (прогрессивное налогообложение, альтернативные законопроекты об образовании и так далее) [9].
Во-вторых, обратим внимание на реже анализируемое влияние на социально-экономическую политику Конституционного Суда Российской Федерации (КС) [10], имеющего возможность как оценивать конституционность норм законодательства, институционально оформляющего социально-экономическую политику и реформы социальной сферы, так и толковать нормы Конституции. Соответствие Конституции России тех или иных норм, оформлявших социально-экономическую политику, зависит от толкования принципа социального государства. КС РФ не давал отдельного толкования статье 7, хотя в ряде решений к ней апеллировал. В отсутствие официального толкования, дадим доктринальное.
Первое: как толковать норму «Российская Федерация — социальное государство»? Как констатацию факта? Как декларацию (стремление государства когда-нибудь этого достичь)? Или как обязательство государства? Хотя ряд доктринальных источников рассматривают ее как норму-декларацию, представляется, что осуществляя в 1993 г. свое волеизъявление, граждане России исходили из того, что это — взятое на себя государством обязательство, а не «норма-пожелание», как потом стали объяснять теоретики права.
Второе: следует ли толковать «социальное государство» узко — как государство, оказывающее помощь лишь уязвимым слоям населения (бедным, пожилым, инвалидам и другим подобным группам)? Известные конституционалисты О. Г. Румянцев и А. Н. Домрин полагают, что «социальное государство» не сводится к «социальному обеспечению» и «требует значительно более широкого толкования» [11. С. 21], что согласуется с понимаем социального государства рядом экономистов и социологов — от автора самого термина «социальное государство» Л. Штейна [12. С. 52–53] до одного из его крупнейших современных исследователей Г. Эспин-Андерсена [13. С. 28]. Учитывая исследования социального государства в рамках разных общественных наук и зарубежный опыт толкования данной категории, можно говорить о вменении социальному государству обязанности минимизировать социальные контрасты (имущественное неравенство, в том числе, в доступе к публичным благам — образованию, здравоохранению) и конфликты (труда и капитала, другие). Возможно и еще более широкое понимание — как государства, в котором интересы социума ставятся выше частного коммерческого интереса [14].
Зарубежная практика показывает, что из конституционного принципа социального государства возможно выводить далеко идущие следствия. Так, Федеральный
Конституционный суд ФРГ увязывал прогрессивную шкалу налогообложения доходов с обязанностью социального государства проводить политику социального налогообложения с учетом потребностей неимущих групп населения [15. С. 71–72]. В российском же случае КС не признавал совокупность норм законодательства, закрепляющего «плоскую» (а учитывая порядок отчислений в социальные фонды — регрессивную) шкалу, не соответствующей Конституции России. Аналогично КС мог бы признать совокупность законодательных норм, институционально оформляющих коммерциализацию здравоохранения. В частности, совокупность п. 2 ст. 19 и п. 4 ст. 80 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», из которых вытекает, что медицинская помощь оказывается бесплатно лишь «в гарантированном объеме» — границы которого размыты [16] — в соответствии с утверждаемой Правительством России «программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», а также совокупность норм законодательства, позволяющих государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения оказывать платные медицинские «услуги», не соответствующей Конституции России, в частности, ее ст. 41, но пока этого не сделал.
В статье 2018 г.3 председатель КС В. Д. Зорькин указал, что, судя по характеру многочисленных жалоб, «главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем», «мы еще далеки от реализации положений статьи 7», и в этой ситуации «Конституционный Суд Российской Федерации видит свой вклад … в последовательной защите социально-экономических прав граждан», и что «последние законодательные решения по пенсионной реформе объективно затрагивают очень широкий спектр социально-экономических прав малоимущих слоев населения …». Но когда нормы законодатель- ства, оформлявшие «пенсионную реформу» 2018 г., оспаривались в Конституционном Суде, тот уклонился от рассмотрения дела по существу, вынеся отказное определение 4, так как, по мнению Суда, этот вопрос относится к усмотрению законодателя и «вопросам социально-экономической целесообразности», оценка чего выходит за рамки его полномочий. Но хотя Конституция России, действительно, не устанавливает конкретный пенсионный возраст, из этого нельзя сделать вывод о полновластии законодателя в данном вопросе. Представляется, что КС уклонился от рассмотрения вопроса о том, не были ли нарушены такие конституционные принципы, к которым он сам неоднократно апеллировал в других своих решениях, как принцип правовой определенности (учитывая, что закон повышает пенсионный возраст не для будущих поколений, а для тех, кто еще вчера знал, что, по закону, завтра вправе выйти на пенсию) и принцип пропорциональ-ности/соразмерности ограничения прав и свобод (заявители указывали на наличие иных, менее ущемляющих права граждан, средств достижения провозглашенных целей реформы). Кроме того, из ст. 39 Конституции вытекает право граждан на пенсионное обеспечение по возрасту, а в соответствии с теорией права — и корреспондирующая ему обязанность государства по реализации этого права. Создание любых внебюджетных фондов (Конституция России упоминает бюджет, но не Пенсионный фонд) не может служить основанием для ссылок на отсутствие средств в них в обоснование невозможности исполнения государством своих обязанностей перед гражданами и необходимости их корректировки — до тех пор, пока соответствующие средства имеются в бюджете. Причем термин «федеральный бюджет» тре- бует расширительного толкования (включая средства внебюджетных фондов) — как это в контексте ст. 101 Конституции России было сделано в первом законе «О Счетной палате Российской Федерации» (1995 г.) и что соответствует п. 3 ст. 18 Лимской декларации 5. Поэтому сложно согласиться с тезисом из Определения Конституционного Суда, согласно которому «в основу конституционно-правовой оценки оспариваемого регулирования не может быть положено то обстоятельство, что в случае нехватки в финансовой системе обязательного пенсионного страхования денежных средств для обеспечения выплаты пенсий законодатель может предусмотреть увеличение трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации <…>, и оценка возможности увеличения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за счет повышения тарифов страховых взносов, выходит за рамки полномочий Конституционного Суда».
Учитывая, что КС до сих пор не использовал имеющиеся у него возможности пресечения демонтажа социального государства, а вопросы являются острыми, закрепление положений, детализирующих и дополнительно гарантирующих реализацию принципа социального государства, непосредственно в Конституции представляется актуальным. Однако можно ли считать таковыми уже принятые поправки (закрепление МРОТ не ниже прожиточного минимума, принципа солидарности поколений в пенсионной системе, гарантии индексации пенсий)? Представляется, что нет. Эти «гарантии» могут выхолащиваться повышением пенсионного возраста, низкими размерами пенсий. Кроме того, и сами термины «справедливость» и «солидарность» применительно к пенсионной системе могут законодателем и КС толковаться по-разному. Нико- им образом не решают принятые поправки и проблемы имущественной дифференциации населения и коммерциализации социальной сферы. Более того, некоторые нормы, вносимые поправкой к Конституции, представляются опасными. Так, в ст. 75 Конституции закрепляется «адресная» социальная поддержка граждан, что говорит о выборе в пользу «селективной» модели социального государства (в противоположность «универсальной»), не преодолевающей, а лишь консервирующей массовую бедность и имущественно обусловленную депривацию [17; 18]. Представляется, что подлинными гарантиями принципа социального государства могли бы стать иные нормы.
Во-первых, учитывая недавно проведенную «пенсионную реформу», актуально конституционное установление ограничений на повышение пенсионного возраста (или усложнение процедуры принятия подобных решений — вплоть до референдума), а также минимального размера коэффициента замещения пенсии, в том числе с учетом рекомендаций МОТ (рекомендация — не менее 40%, сегодня в России — около 30%).
Во-вторых, зарубежный опыт показывает, что конституционные акты могут не только провозглашать социальный характер государства, но и подробнее его расшифровывать: «недопустимость концентрации собственности в руках немногих индивидов», «недопустимость концентрации богатства во вред общественным интересам», «более справедливое распределение доходов и богатств», «сведение к минимуму неравенства в доходах» и так далее [19. С. 233–234]. Конституционное закрепление подобных императивов представляется актуальным, поскольку отсутствие соответствующих прямых указаний, а также их выведения КС в рамках толкования нормы о социальном государстве позволяет российской власти не включать их в понимание обязанностей социального государства.
В-третьих, представляется целесообразным закрепить на конституционном уровне некоторые конкретные инструменты реализации принципа социального государства: не только фискальную, но и социальную (перераспределительную), а также экономическую (стимулирующую) функции налогообложения, а как максимум — прогрессивную шкалу налогообложения доходов, личной (не используемой для производственных нужд) собственности, а также средств, полученных в порядке наследования и дарения. На последнем настаивают не только экономисты, но и известные правоведы, например, Е. И. Колюшин, называющий отказ от налоговой прогрессии среди факторов, препятствующих отнесению России к социальным государствам [20. С. 65], и В. Е. Чиркин, предлагающий ее конституционное закрепление [21. С. 13]. Показательно, что ряд государств, например, Италия, Испания, Швейцария, закрепляют принцип прогрессивного налогообложения непосредственно в своих конституциях.
В-четвертых, представляется целесообразным закрепить в виде конституционного принципа, получающего дальнейшее развитие в налоговом законодательстве, положение, не допускающее, по сути, льготное налогообложение доходов от капитала по сравнению с доходами от трудовой деятельности. До недавнего времени в России доходы от дивидендов облагались по ставке 9%; сегодня эта ставка равна 13% для физических лиц-резидентов и 15% для физических лиц-нерезидентов, в то время как в европейских социальных государствах ставки могут достигать 70%.
В-пятых, целесообразно закрепить положение, не позволяющее рассматривать здравоохранение и образование в качестве квазирыночных «услуг» (аналогичное норме ст. 196 Конституции Бразилии «здоровье — право всех и обязанность государства …»).
Хотя корреляция между нормами Конституции и реальной практикой не непосредственная (например, Конституция Бразилии содержит гораздо больше социальных положений, чем Основной за- кон ФРГ), тем не менее, признание того, что закрепление подобных социальных норм не является «достаточным» условием их реализации, не означает отказ от признания важности их закрепления. Так, хотя постепенно, через законодательство и судебную практику, США и пришли ко многим достижениям социального государства, отсутствие социальных положений в Конституции позволяло Верховному Суду США тормозить признание неконституционными многих норм, сегодня представляющихся аксиомами социального государства. Например, в деле «Lochner v. New York» 1905 г. Верховный Суд признал неконституционным закон штата Нью-Йорк, устанавливавший ограничения по рабочему времени для пекарен, в деле «Hammer v. Dagenhart» 1918 г.— закон, запрещавший эксплуатацию детского труда, в деле «Adkins v. Children’s Hospital» 1923 г.— установление МРОТ для женщин, в деле «Railroad Retirement Board v. Alton R. Co» 1935 г.— программу пенсионного обеспечения работников железнодорожных компаний [22. С. 101–102].
Существует ряд иных механизмов превращения нормы о социальном государстве в реальность: закрепление социальной функции собственности (яркий пример — норма «Собственность обязывает. Пользование ею должно одновременно служить общему благу» ст. 14 Основного закона ФРГ), социализация недр6, установление для различных отраслей экономики норм рентабельности с изъятием сверхдоходов (используемое в скандинавских и других развитых странах), ограничение зарплат и бонусов топ-менеджерам государственных и полугосударственных компаний — так называемых «золотых парашютов» (аналогично установленному в Швейцарии). А также — право народа на принятие решений по социально-экономическим вопросам на референдуме. Действующий в России закон о референдуме чрезвычайно ограничил граждан в этом праве, притом, что исследователи показывают, что «не существует теоретических и убедительных практических доводов в пользу установления запрета на решение народом бюджетно-финансовых вопросов на референдуме, политические же доводы носят, по сути, эгалитарный характер и сводятся к отстранению народа от решения важнейших вопросов государственной жизни по разным показателям (образованию, способности принимать взвешенные решения и так далее), что не соответствует современным стандартам и представлениям о демократической организации государства и соответственно положениям Конституции России <…> зарубежная практика содержит равноценные свидетельства в пользу отсутствия такого ограничения, следовательно, ссылкой на нее они никак не могут быть оправданы» [23].
Отметим также, что полноценно реализовывать функции социального государства может лишь суверенное государство — сохраняющее в своих руках весь спектр инструментов социально-экономической политики. Однако, несмотря на многочисленные вызовы экономическому суверенитету, с которыми столкнулась Россия, и богатый зарубежный опыт конституционно-правовых механизмов его обеспечения [24], поправки к Конституции не решают этот вопрос, хотя их внесение аргументировалось, в том числе, необходимостью «защиты суверенитета».
* * *
Таким образом, зарубежный опыт демонстрирует разнообразие конституционных инструментов обеспечения социального государства, которые Конституция России ни в исходном виде, ни с учетом поправок не использует. Возможен вопрос: не «перегрузит» ли реализация указанных выше предложений текст Основного закона? Во-первых, на фоне сотен (!) поправок (хотя формально внесенных единым Законом о поправке) этот вопрос теряет смысл — скорее, речь идет о приоритетах. Во-вторых, зададимся, вслед за известным конституционалистом Б. А. Страшуном, вопросом, какая конституция целесообразнее — подробная или краткая. Его ответ: это «зависит от того, чьи интересы закладываются в основу конституции. Если это интересы человека, общества, то, видимо, целесообразнее более подробное конституционное регулирование <…> дающее субъектам права больше социально-правовых гарантий. С точки же зрения власти целесообразнее краткая конституция, в рамках которой руки у власти свободнее, ибо в общим образом сформулированные нормы можно в зависимости от обстоятельств и потребностей вкладывать весьма различное содержание» [25].
В то же время, сравнительный анализ показывает: Конституция может быть подробной, содержащей множество «красивых» принципов (правового, демократического, социального государства) и описаний прав и свобод граждан, но, как отмечает О. Г. Румянцев применительно к Конституции России 1993 г., «положения об устройстве власти сводят на нет многие прекраснодушные принципы» [26], а может быть лаконичным сухим документом, но четко закрепляющим необходимые институциональные механизмы — так, Конституция США, не провозглашая принципа демократического государства, во многом обеспечила его закреплением реального механизма сдержек и противовесов. К сожалению, поправки к Конституции Российской Федерации в части, касающейся организации системы публичной власти, скорее усиливают дисбаланс в системе сдержек и противовесов, что вновь создает риск выхолащивания социальных норм [27]. То есть, с одной стороны, целесообразно закрепление на конституционном уровне ряда дополнительных механизмов обеспечения социального государства, но, с другой стороны, сами эти конституционные нормы — не панацея и требуют институциональных гарантий, касающихся государственно-политического механизма.
Список литературы Проблемы реализации социального государства и конституционная реформа - 2020
- Чиркин, В. Е. О терминах «экономическая конституция» и «конституционная экономика», а также о российской и западной науке (отклик на статью Г. Н. Андреевой) / В. Е. Чиркин // Конституционное и муниципальное право. — 2016. — № 3. — С. 11-13.
- Страшун, Б.А. Конституционное регулирование экономических отношений и тенденции его развития в современном мире / Б. А. Страшун // Сравнительное конституционное обозрение. — 2013. — № 2. — С. 86-103.
- Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. / С. А. Авакьян. — Москва: РЮИД, Сашко, 2000. — 528 с. ISBN 5855970159.
- Александрова, О.А. Институциональные проблемы становления социального государства в современной России. / О. А. Александрова. — Москва: М-Студио. 2009. — 288 с. ISBN 978-5¬903198-17-7.
- Богомолов, О. Т. Российской нормой должна стать социально-ориентированная рыночная экономика / О. Т. Богомолов // Экономическая наука современной России. — 2000. — Экспресс-выпуск № 1(5). — С. 37-40.
- Ждановская, А. ГАТС ВТО — соглашение о приватизации общественных благ и разрушении модели социального государства / А. Ждановская: [сайт]. — URL: http://wto-inform.ru/experts/gats_vto_soglashenie_o_privatizatsii_obshchestvennykh_blag_i_razrushenii_modeli_sotsialnogo_gosudars/ (дата обращения: 14.02.2018).
- Россия как социальное государство: конституционная модель и реальность: сборник материалов / под ред. Е. И. Колюшина, А. А. Нелюбина. — Москва: Изд-во Совета Федерации, 2007. — 190 с.
- Александрова, О. А. Социальное государство в современной России: развитие или демонтаж / О. А. Александрова // Вестник РГГУ. Серия: Экономика, Управление, Право. — 2013. — № 15(116). — С. 55-64.
- Эволюция нормативной базы социальных реформ / науч. ред. Авраамова Е. М. — Москва: ИСЭПН РАН, 2011-244 с. ISBN 978-5-903198-24-5.
- Гаджиев, Г.А. Экономическая политика государства: оказывает ли Конституционный суд воздействие на ее очертания? / Г. А. Гаджиев // Сравнительное конституционное обозрение. — 2010. — № 1(74). — С. 89-96.
- Домрин, А.Н. Два необходимых конституционных условия построения социального государства в России /А. Н. Домрин, О. Г. Румянцев // Конституционный вестник. — 2013. — № 3. — С. 21-28.
- Ефимов, В.М. Экономисты и социальное государство / В. М. Ефимов // Экономическая наука и социальное государство: Сборник материалов Круглого стола в рамках программы III Московского экономического форума (Москва, 26 марта 2015 г.) / отв. ред. О. А. Александрова, ред. — сост. Ю. С. Ненахова. — Москва: Экон-информ, 2016. — С. 52-66.
- Esping-Andersen, G. Social Class, Social Democracy and State Policy / G. Esping-Andersen. — Copenhagen: 1980. — 28 p. ISBN 9788770341790.
- Болдырев, О.Ю. Социальное государство: как приблизить реальность к конституционному принципу / О. Ю. Болдырев // Конституционное и муниципальное право. — 2020. — № 2. — С. 11-16. DOI: 10.18572/1812-3767-2020-2-11-16
- Любе-Вольфф, Г. Принцип социального государства в практике конституционного суда Германии / Г. Любе-Вольфф // Сравнительное конституционное обозрение. — 2008. — № 1. — С. 67-76.
- Чубарова, Т.В. Перспективы реформы здравоохранения России: необходимость новых подходов / Т. В. Чубарова // Проблемы прогнозирования. — 2004. — № 5. — С. 75-86.
- Александрова, О. А. Усиление селективности социальной политики и перспективы снижения бедности / О. А. Александрова, А. В. Ярашева // Народонаселение. — 2018. — № 1. — С. 4-22. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-1-01
- Rothstein, B. Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State / B. Rothstein. — Cambridge: 1998. ISBN 13-978-0521598934.
- Чиркин, В.Е. Конституция и социальное государство / В. Е. Чиркин // Конституционный вестник. — 2008. — № 1(19). — С. 231-248.
- Колюшин, Е.И. Конституционная проблема социального государства. / Е. И. Колюшин // Современное конституционное право: отечественные и зарубежные исследования. Сборник научных трудов. Сер. «Правоведение» / отв. ред. Е. В. Алферова, И. А. Умнова (Конюхова). — Москва.: ИНИОН РАН, 2019. — 237 с. С. 61-74.
- Чиркин, В.Е. Социоэкономическая парадигма российской Конституции 1993 г.: плюсы и минусы / В. Е. Чиркин // Журнал российского права. — 2018. — № 7(259). — С. 5-15.
- Фрайот, С. Социальные и экономические права в США: где искать? / С. Фрайот // Сравнительное конституционное обозрение. — 2008. — № 1(62). — С. 100-106.
- Андреева, Г.Н. Бюджетно-финансовые вопросы как предмет референдума (заметки на полях решения Конституционного суда РФ) / Г. Н. Андреева // Конституционное и муниципальное право. — 2007. — № 20. — С. 16-22.
- Болдырев, О.Ю. Экономический суверенитет государства и конституционно-правовые механизмы его защиты: монография / науч. ред. С. А. Авакьян. / О. Ю. Болдырев — Москва: Проспект, 2018. — 408 с. ISBN 978-5-392-28786-4.
- Страшун, Б.А. Конституционное регулирование экономических отношений и тенденции его развития в современном мире / Б. А. Страшун // Сравнительное конституционное обозрение. — 2013. — № 2(93). — С. 86-103.
- Румянцев, О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления). / О. Г. Румянцев — Москва: Юрист. 1994. — 288с.
- Болдырев, О.Ю. Поправки к Конституции России: решение старых проблем или создание новых? / О. Ю. Болдырев // Конституционный вестник. — 2020. — № 5(23). — С. 121-127.