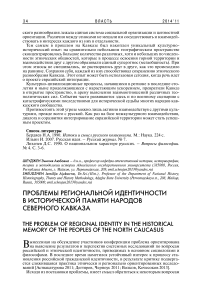Проблемы региональной идентичности в исторической памяти народов Северного Кавказа
Бесплатный доступ
Участники поставили и обсудили целый ряд вопросов: о гражданской идентичности в научно-политическом дискурсе и массовых общественных представлениях, о состязательности или взаимодополняемости гражданской и этнической идентичностей, характере этих идентичностей, согласии и рассогласованности в ориентирах этнополитического развития в регионах и, наконец, о том, насколько гражданская идентификация снимает межэтнические предубеждения. Докладчики отстаивали позицию, что общество самостоятельно способно выработать способы защиты от дестабилизирующего информационного воздействия. Иммунитетом от такого воздействия является культура и система ее постоянного социального воспроизводства. Опасности разрыва целостности духовно-культурного пространства противостоят традиционные российские ценности. Докладчики предприняли попытку обозначить пути управляющего воздействия на идентификационные процессы регионального сообщества в контексте укрепления общероссийской национальной идентичности: был предложен переход от линейного мышления к нелинейному, к «мышлению, ориентированному на будущее», способному обеспечить несиловое воздействие на идентификационные процессы. Было аргументировано положение о миссии федеральных университетов в формировании и укреплении общероссийской идентичности. В поиске путей укрепления российской идентичности по-новому зазвучало понятие креативной идентичности, обязывающей индивида действовать социально, вкладывать социальный смысл в поведение других и выводить осознание идентичности на уровень добровольности принятия социально-ценностных ориентаций. Особый интерес был направлен на региональное измерение поставленной на конференции проблемы. Культурно-цивилизационные процессы, протекающие в регионах в последние столетия, превратили Кавказ в открытое пространство, в арену выяснения взаимоотношения различных геополитических сил. Противостоять угрозе развития военного сценария с катастрофическими последствиями в исторической судьбе многих народов кавказского сообщества можно лишь активно взаимодействуя с другими культурами, прежде всего с русской. На базе межкультурного взаимодействия, диалога и соразвития интегрирование евразийской территории может стать успешным проектом. Учет исторического опыта культурного взаимовлияния народов Северного Кавказа и историческая память помогутт сформировать социокультурное ядро в структуре социально-политических идентификаций. Это было подтверждено результатами исследований, выявивших, что национально-патриотические ориентации в политическом сознании россиян занимают значимые позиции, а россияне, включая молодежь, - преимущественно государственники. Современные ценности не вытесняют традиционные, а встраиваются в них, давая путь новым интегрированным гибридным ценностям. Поэтому эффективное регулирование скорее должно основываться на маневрировании между двумя этими трендами - в этом случае возможна подлинная гражданская консолидация.
Российская идентичность, национальная безопасность, информационное общество, культурно-цивилизационные процессы, северный кавказ, межкультурное взаимодействие, историческая память, диалог, соразвитие, патриотизм, гражданская консолидация, этническая идентичность, региональная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167263
IDR: 170167263
Текст научной статьи Проблемы региональной идентичности в исторической памяти народов Северного Кавказа
В ынесенная на обсуждение участников конференции проблема ориентирована на выяснение результатов и перспектив системных исследований по вопросам российской и этнической идентичности, приводимых в основном социологами и философами. В последнее время наметился устойчивый интерес к процессу становления российской гражданской идентичности, в результате критике подвергается сложившаяся практика этнически и регионально ориентированных исследований [Аствацатурова 2011; Дегтярев, Черноус 2011; Волков, Кочесоков 2013].
Исходя из постановки проблемы, имеет смысл обратиться к некоторым вопросам идентичности, основываясь на образах и представлениях, закрепившихся в исторической памяти народов Северного Кавказа. Именно память, являясь основой, определяющей уровень коллективного и индивидуального сознания, обусловливает отношение людей к исторической действительности как на теоретическом уровне, так и уровне обыденного сознания.
В последние десятилетия проблемы исторической памяти приобретают все большую актуальность: общими усилиями ученых разных научных направлений создается основа для выхода на более высокий уровень осмысления многих базовых вопросов. На основе сложившихся теоретических подходов и имеющегося опыта мнемонических интерпретаций в исторических исследованиях создается реальная возможность для осмысления процесса зарождения базовых идентификационных матриц у народов Северного Кавказа.
При этом, учитывая протяженность во времени устной традиции, прежде всего речь может идти об архаических образах и представлениях, сложившихся на основе нартского эпоса, бытующего у адыгов, абхазцев, карачаевцев, балкарцев, осетин и отчасти у ингушей, чеченцев, дагестанцев. Уже сам по себе этот факт важен, т.к. позволяет представить истоки не только этнической, но и региональной идентичности. По признанию многих авторитетных специалистов, «Нарты» относятся к древнейшим героическим эпосам мира 1 , типологически близким рунам «Калевалы» и даже древнешумерскому эпосу о Гильгамеше.
При всей условности фиксации исторических событий устные предания могут быть рассмотрены как «эпическая модель истории». В устной культуре сказания такого уровня выполняли множество функций: это и передача исторического опыта (в смысле «действие», «испытание»), и уроки нравственности, и кодекс поведения, и культивирование разделяемого всеми мировидения. Более того, «свое» племя локализовано на «своей» земле, при этом четко осознается наличие «других» живущих рядом народов. Сегодня историки нередко обращаются к проблеме «свой – чужой», при этом зачастую не учитывается, что этот вопрос, имеющий глубокие генетические связи, осмысливался уже на мифологическом уровне.
Отсутствие письменности требовало особого «устройства» памяти: передача общественно значимых навыков осуществлялась живыми носителями памяти непосредственно через имитацию и повторение. Именно благодаря этому основные навыки и умения «из уст в уста» передавались новым поколениям. Зафиксированные коллективной памятью события, нормы, стереотипы, символы позволяли создать идеальный образ, с которым стремилось идентифицировать себя каждое новое поколение. Народы Северного Кавказа на протяжении многих столетий сохраняли, более того, переживали связь с событиями и образами, запечатленными в устной традиции, воспринимая себя как наследников героического исторического прошлого. В частности, в дневниках пребывания в Черкесии Дж. Белл приводит интересный случай «переноса» мифологических представлений в сознание адыгов XIX в.: «Когда наши гребцы следовали вдоль берега, они запели живую песню, адресованную царю рыб», рассчитывая на его покровительство [Белл 2007: 81-82].
Нельзя не учитывать то обстоятельство, что фольклор, являясь формой общественного сознания, обусловливает типологическое единство, поразительную близость мифологических сюжетов народов Северного Кавказа. Явственно проявившиеся параллели мотивов едва ли могли быть результатом случайного совпадения. Скорее всего, уже на заре истории сложный, динамичный мир, о котором повествуют народные предания, не был замкнутым, непроницаемым для внешних импульсов и влияний – напротив, на протяжении всей своей истории он был открыт для контактов и взаимодействия.
При обращении к фольклорным источникам историки далеко не всегда учитывают, что устная традиция способна создавать искаженный образ прошлого, более того, упорно отстаивать его перед лицом меняющейся реальности. В XVIII столетии один из оригинальных мыслителей этого века Дж. Вико, осмысливая историю уст- ной традиции как способа познания прошлого, подчеркивал, что при обращении к этим свидетельствам важно освоить критический взгляд. Объективному познанию прошлого, считал он, препятствуют два вида тщеславия: тщеславие наций, полагающих, что их история восходит «к самому началу мира», и тщеславие ученых, далеко не всегда учитывающих сходство пути в истории «своего» народа с историческими судьбами других народов [Вико 1994: 117-118].
Достаточно четко региональная идентичность проявляется при категоризации природно-географического пространства: «горцы», «горцы Кавказа», «кавказцы». С античных времен существовало представление о Кавказе как едином пространстве – таинственной Стране гор, самой отдаленной «из известных в то время людям» [Кавказ и Дон… 1990: 192]. Горы воспринимались как доминантная целостность, четко структурированная архитектоника, закрепившая в сознании народов понятие «центр» при описании территории обитания: «народ у Кавказа», «у подножия Кавказа», «граничит с Кавказским хребтом», «области к северу от Кавказа», «Кавказские горы справа», «слева от Кавказа» [Кавказ и Дон… 1990: 192]. Эти представления были настолько устойчивыми, что давали о себе знать на протяжении многих веков.
Традиционно горы воспринимались в качестве естественной среды обитания, освоенного пространства, отделяющего мир горцев от «чужого», во многом враждебного мира.
Исходя из существующих представлений, что идентичность формируется во взаимосвязи с другими людьми, создание обобщенного образа «горца», «кавказца» прошлых веков было бы невозможно без обращения к многослойному пласту информации, сохранившейся в записях людей «извне». Сведения, вошедшие в сочинения европейских, арабских, турецких, русских авторов, закрепили собирательные и индивидуальные, позитивные и негативные образы «человека Кавказа». Для чужестранцев знакомство с горскими обществами во многом стало откровением: фактически был открыт новый мир. Вызывала восхищение не только сказочно прекрасная природа, но и органичная жизнь народа в этой самобытной среде. Благодаря их публикациям фактически разрушался сложившийся стереотип «варварских» народов. Более того, проводя сравнение с европейскими нравами, «гости», побывавшие на Северном Кавказе, далеко не всегда могли констатировать их превосходство. В частности, их удивляла религиозная толерантность, отношение к «чужим», обычаи, одежда, привычки.
Внимания достоин тот факт, что на протяжении веков, если судить по устным свидетельствам, неизменными оставались представления горцев о себе, о древности своей истории. Отдаляясь от культуры своего детства, они все более активно утверждали ее достоинство и защищали ее уникальность. При этом чем больше они узнавали о людях Запада и Востока, тем больше задумывались над вопросом, что значит быть адыгом, чеченцем, лакцем? В этом смысле особое значение приобретают идеи И. Гердера, всесторонне обосновавшего подход к пониманию «народного духа», отражающего самосознание народа, проявляющегося в этнической идентичности, в уважении и сохранении национальных традиций, в готовности к созиданию [Гердер 1977: 270].
Особое влияние на формирование идентичности народов Северного Кавказа оказала Кавказская война. Хорошо известно, что войны занимают особое место в истории народов: путем жестоких, продолжительных войн решаются проблемы территорий, ресурсов, политической престижности, экономической и духовной экспансии. Фактически все эти обстоятельства определяли причины Кавказской войны, ее масштабность, продолжительность, ожесточенность. Тем не менее с первых лет война на Кавказе воспринималась как особое явление, не вписывавшееся в привычные представления. России пришлось столкнуться с неизвестным миром, с народами, имеющими другие традиции и обычаи. По мере развития событий, наряду с острейшими военно-политическими проблемами, актуальными становились знания о народах региона. Даже в специальные разведывательные отчеты и описания военно-стратегического назначения стали входить данные по этнографии и истории горцев. Такие их характерные черты, как мятежный дух и любовь к независимости, воспринимались как фактор массовой мобилизации [Записки А.П. Ермолова 1991: 328-329]. В официальных документах ставилась задача военной силой преодолеть «дикую привязанность к независимости кавказских племен» [Акты Кавказской... 1878: 902-904].
Более того, успехи военных предприятий горцев нередко объяснялись неукоснительным соблюдением ими «укоренившихся веками обычаев». Обращаясь к этой проблеме, генерал М.Я. Ольшевский подчеркивал, что русское командование, воспринимая горцев как врагов, стремилось «даже их достоинства обращать в недостатки», не помышляя о том, чтобы привести выдвигаемые требования в соответствие с «их понятиями, нравами, обычаями и образом жизни» [Ольшевский 2003: 65].
Десятилетиями массовое сопротивление горцев поддерживалось не только военно-стратегической энергией, но и обстоятельствами, лежащими в сфере традиционных представлений, определявших структуру коллективного сознания. Прежде всего, это героизация исторического прошлого, признание свободы высшей ценностью, представления о мужском долге, презрение к смерти и уверенность, что каждого погибшего в бою ждет достойная тризна, а его воинский подвиг останется в памяти потомков. «Без них, – писал генерал А.А. Вельяминов, – не найдет он между сородичами своими ни дружбы, ни доверенности, ни уважения, он делается предметом насмешек и презрения…» [Кавказский сборник 1883: 65].
Очевидно, что немаловажную роль играла непоколебимая уверенность в спасительной силе Кавказских гор, воспринимаемых в качестве естественной границы среды обитания и освоенного пространства, отделяющего «свой» мир от «чужого» – «земли войны». Осознавая это, российское командование предпринимало, как неоднократно признавалось, безрезультатные походы, стремясь не столько решить стратегические задачи, сколько подорвать закрепившееся в коллективной памяти убеждение в неприступности, спасительной силе гор.
Война усилила процесс осознания важности этнической и региональной идентичности, взаимных обязательств, проявляющихся в приверженности семье, роду, «своему народу», в стремлении «защитить друг друга против набегов и насилий людей посторонних» [Карлгоф 1860: 526]. Благодаря обычаю гостеприимства создавались «островки безопасности», и никакие угрозы не могли заставить горцев выдать укрываемых. Причем этот освященный веками обычай свято соблюдался даже лояльно настроенными «мирными» племенами. Играл свою трагическую роль и обычай кровной мести. Выполняя один из главных общественных нормативов, горцы, рискуя жизнью, стремились отомстить за гибель близких. Именно неукоснительное следование этому обычаю придавало массовость и ожесточенность сопротивлению.
Сохранившиеся свидетельства подтверждают мнение, что самоидентификация личности происходила не только под влиянием представлений, закрепленных в коллективном сознании, но и под воздействием изменений в общественной среде. Так, представления горцев о традиционном «рыцарском» поведении в войне по мере ужесточения противостояния, поставившего под сомнение существование самобытного образа жизни народа, вытеснялись новыми, более жесткими поведенческими нормативами по отношению к «чужим».
В течение многих веков, вступая в контакты с другими народами, народы Северного Кавказа, к удивлению, упорно не стремились влиться в общий «цивилизационный поток», отчаянно отстаивая традиционный образ жизни как особый опыт общественного развития. Именно это обстоятельство, непривычные этнические нормы и бытовые предпочтения вызывали осуждение царских чиновников. Между тем такие исторически сложившиеся явления, как своеобразная иерархия этносов, сложная система вассалитета, четкая регламентация поведения, побратимство (куначество), воспитание детей другого клана (аталычество), особые формы гостеприимства, захват заложников, преследование кровников, веками являлись важными регуляторами этнических и межэтнических отношений в северокавказском регионе. На фоне этих «воспоминаний» унижающим достоинство «клеймом» выглядело существовавшее на официальном уровне представление о горцах как «диком народе», принципиально отличавшееся от традиционных их представле- ний и личной самооценки. «Каждый оборванный горец, – писал Н. Дубровин, – сложив руки накрест, или взявшись за рукоять кинжала, или опершись на ружье, стоял так гордо, будто был властелином вселенной» [Дубровин 1871: 547].
Деформирующее влияние на этническую и региональную идентичность не мог не оказать массовый «исход» коренного населения, повлекший демографическую катастрофу. Именно переселенцы, вынужденные буквально «по живому» порывать исторические связи с родиной, «унесли на подошвах ног» значительную часть коллективной памяти. Последовавшие изменения этнического состава населения Северного Кавказа сказывались не только на традиционном образе жизни, но и на самосознании народа, его идентификации, проявившейся в характере общественной организации, демографической структуре, хозяйственной деятельности, ментальных «подвижках».
Народы, на опыте познавшие разрушительную силу войны и ее последствий, стремились в новых условиях сохранить этническую идентичность (язык, веру, традиции, обычаи). Связующим началом северокавказской региональной идентичности стало наличие типологических признаков общности деятельности людей: историческое прошлое, опыт освоения территории, взаимопроникающие контакты национальных культур. Проникновение в глубинный смысл проблем идентичности невозможно без системного изучения культурных традиций народов Северного Кавказа, имеющих много общего (менталитет, мироощущение, связь с горами и т.п.) и особенного (разные языковые группы, преобладание тех или иных форм хозяйственной деятельности и т.п.).
Все большую значимость приобретает научное направление, сторонники которого, бросив вызов модернизационной теории, доказывают необходимость скорректировать сложившиеся представления об этнокультурном многообразии, жизнеспособности культурных традиций, их взаимодействии и столкновении. С учетом этих идей заслуживает внимания постановка вопроса о культурном пограничье в контексте исторического опыта культурного взаимовлияния народов Северного Кавказа.
Более того, современный мировой опыт не исключает, что малочисленные народы, являясь участниками истории, способны создавать, изучать и использовать собственный исторический опыт. Еще Н.М. Карамзин задавал вопрос, не утративший своего теоретико-методологического значения и сегодня: как народы разных территорий, «разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, жаркими и хладными климатами» могли составить «одну державу с Москвой»? [Карамзин 1998: 40]. Во многом именно ответ на этот вопрос позволяет понять истоки российской идентичности, историческую предопределенность сосуществования и сотрудничества народов России.
И еще одно. В условиях модернизации, тем более такой глубокой, как осуществляющаяся сегодня в России, затрагивающей все сферы политической, экономической и духовной жизни, российская, региональная, этническая идентичности представляются базовыми ценностями, имеющими значительный интегративный потенциал, что важно учитывать в исторической практике новой России.
Список литературы Проблемы региональной идентичности в исторической памяти народов Северного Кавказа
- Акты Кавказской археографической комиссии. 1878. Тифлис: Типографiя Главнаго Управления Наместника Кавказскаго. Т. 7. 1300 с.
- Аствацатурова М.А. 2011. Северный Кавказ: перспективы и риски. Трансформация регионального этнополитического пространства. М.: Московское бюро по правам человека. 192 с.
- Белл Дж. 2007. Дневники пребывания в Черкесии в течение 1837-1838 годов (пер. с англ. К.А. Мальбахова.). В 2 т. Т. 1. Нальчик: Эль-Фа.
- Вико Дж. 1994. Основания Новой науки об общей природе наций. М.: REFL-book -ИСА. 756 с.
- Волков Ю.Г., Кочесоков Р.Х. 2013. Реинтеграция России как методологическая проблема.//Научная мысль Кавказа. № 4. С. 17-21.
- Гердер И.Г. 1977. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука. 705 с.
- Дегтярев А.К., Черноус В.В. 2011. Гражданская идентичность в пространстве националистического дискурса.//Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. № 3. С. 16-20.
- Дубровин Н. 1871. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб.: Типография Департамента уделов. Т. 1. 656 c.
- Записки А.П. Ермолова. 1798 -1826. 1991. М.: Высшая школа. 475 с.
- Кавказ и Дон в произведениях античных авторов. 1990. Ростов н/Д: Русская энциклопедия. 400 с.
- Кавказский сборник. 1883. Тифлис. Т. 7.
- Карамзин Н.М. 1998. История государства Российского. В 12 т., 4 кн. М.: Рипол-классик. Т. 7.
- Карлгоф Н. 1860. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих северо-восточный берег Черного моря.//Русский вестник. № 8. С. 522-526.
- Ольшевский М.Я. 2003. Кавказ с 1841 по 1866 г. СПб.: Звезда. 607 с.