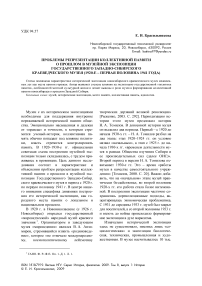Проблемы репрезентации коллективной памяти о прошлом в музейной экспозиции Государственного Западно-Сибирского краеведческого музея (1920-е - первая половина 1941 года)
Автор: Красильникова Екатерина Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена характеристике исторической экспозиции новосибирского краеведческого музея межвоенных лет как места памяти горожан. Автор выявляет степень влияния на экспозицию государственной «политики памяти», особенностей местной культурной жизни и делает выводы о роли музея в формировании коллективной памяти новосибирцев о прошлом Западной Сибири.
Музей, историческая экспозиция, место памяти, коллективная память, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14737015
IDR: 14737015 | УДК: 94.57
Текст научной статьи Проблемы репрезентации коллективной памяти о прошлом в музейной экспозиции Государственного Западно-Сибирского краеведческого музея (1920-е - первая половина 1941 года)
Музеи с их историческим экспозициями необходимы для поддержания внутренне переживаемой исторической памяти общества. Эмоционально насыщенная и далекая от «правды» и точности, к которым стремится ученый-историк, коллективная память обычно попадает под влияние политики, власть стремится контролировать память. В 1920–1930-е гг. официальная советская схема построения музейной экспозиции только складывалась, с трудом приживаясь в провинции. Цель данного исследования состоит в характеристике и объяснении проблем репрезентации коллективной памяти о прошлом в музейной экспозиции Государственного Западно-Сибир ского краеведческого музея в период с 1920 г. по первую половину 1941 г. В центре нашего внимания специфика динамики построения его исторической экспозиции, как городского места памяти о локальном и национальном прошлом.
В 1920 г. в Новониколаевске (с 1926 г. Новосибирск) открылся государственный «мироведческий» народный музей краевого значения 1. Организатором и заведующим музея «мироведения» являлся В. А. Анзи-миров, стремившийся изжить «родиноведе-ние», которое «не отвечало международному, космополитическому лейтмотиву творческих дерзаний великой революции» [Рыженко, 2003. С. 292]. Периодизацию истории этого музея предложил историк Н. А. Томилов. В довоенной истории музея он выделил два периода. Первый – с 1920 до начала 1930-х гг. – Н. А. Томилов разбил на два этапа: этап 1920–1924 гг. он условно назвал «начальным», а этап с 1925 г. до начала 1930-х гг. «временем деятельности музея в рамках Общества изучения Сибири и ее производительных сил (далее ОИС)». Второй период в версии Н. А. Томилова охватывает 1930-е гг. Это – время «работы музея в качестве самостоятельного учреждения» [Томилов, 2000. С. 20]. Важно добавить, что на «начальном» этапе музей практически бездействовал, во второй половине 1920-х гг. его работа стала более интенсивной. В построении экспозиции частично сохранялись дореволюционные подходы, акцентировалась экономическая проблематика. С 1931 до середины 1933 г. музей был закрыт для посетителей, а со второй половины 1933 г. и вплоть до войны происходило формирование экспозиции в духе марксизма.
Изначально исторической экспозиции здесь не существовало, имелись лишь «социологическая» и экспозиции биологическая, техническая, промышленная и художественная. В музее насчитывалось 10 тыс.
экспонатов, но сколько из них имело отношение к истории – не известно 2 . «Миро-ведческий» музей, по оценке культуролога В. Г. Рыженко, представлял собой «некий универсальный центр больше общекультурного, чем сугубо музееведческого назначения» [Рыженко, 2003. С. 293], экспозиции передавали информацию обобщенно, музей был нужен для популяризации главнейших научных дисциплин и точных знаний [Там же. С. 294].
Экспонаты, которые могли бы войти в историческую экспозицию, разместили в экспозиции социологической. Это объясняется и профилем музея, и тем, что сразу после революции еще не было ясно, какой быть советской истории. В молодом Новониколаевске еще не сложились краеведческие традиции, как, к примеру, в Томске.
Но коллекции исторических материалов в первой половине 1920-х гг. все-таки постепенно пополнялись. Отчет о работе музея в период с 1 октября 1925 по 1 октября 1926 г. свидетельствует о появлении в музее самостоятельного этнологического отдела с археологическим и этнографическим подотделами 3 . Вторым заведовала Е. Н. Орлова, работавшая в музее с 1922 г. 4 С середины 1920-х гг. она участвовала в деятельности секции «Человек» ОИС 5 , лично собирала этнографические материалы в Хакассии 6 и Нарымском крае 7 . Но ко второй половине 1920-х гг. количество археологических, этнографических и нумизматических экспонатов в музее оставалось сравнительно небольшим и составляло 1989 шт.
В начале 1920-х гг. новониколаевский музей, работавший вяло, утратил свой краевой статус, который перешел к омскому музею. В 1925 г. новониколаевский музей стал «краеведческим» 8, что означало сужение профиля его деятельности. В 1926 г. на региональном музейном совещании в Новосибирске, проходившем под эгидой ОИС, вновь было принято постановление о «развертывании» новосибирского музея в музей краевого значения 9 . Но с середины 1920-х гг. работа этого учреждения осложнялась борьбой за помещение. Летом 1926 г. музей потеснила кооперативная организация «Сиб-сельхозсоюз». В результате оказалась свернута экспозиция и сократилась выставочная площадь 10.
Несмотря на эти проблемы, к концу десятилетия музей стал центром, координировавшим исследовательскую работу других музеев региона. В частности, в новосибирском музее в 1928 г. состоялось заседание исторической подсекции ОИС, на котором был разработан план исследований по истории региона (намечены темы по источниковедению, по истории экономики, культуры и революции) 11 .
Руководители музея, которые постоянно менялись в 1930-е гг., резко осуждали в отчетах своих предшественников, работавших в 1920-х гг. Главная претензия – аполитичность экспозиций, «антинаучность в построении музея и размещении музейных экспонатов», под которой подразумевалась «буржуазная методология» 12 . Критическую оценку директора музея Г. П. Шапошкова, приступившего к руководству в 1932 г., вызывал «кунсткамерный» характер экспозиции, традиционный для отечественных музеев, начиная с XVIII в. Кунсткамера, в переводе, «кабинет редкостей», представляла на всеобщее обозрение раритеты, необычные искусственные вещи и редкостные экспонаты природного происхождения, которые должны были удивлять и поражать зрителей, а также отражать в просветительских целях состояние всех наук.
Согласно годовым отчетам о работе музея середины и конца 1930-х гг., его работа вплоть до 1933 г. велась под влиянием трудов сибирских областников, «колониальных» и «миссионерских» этнографов досоветской поры. Однако это не совсем так. Отчет о работе музея в 1925–1926 гг. свидетельствует о том, что в конце 1926–1927 гг., после переезда музея, планировалось перестроить все экспозиции по новому принципу: «показать уклон в сторону производительных сил» 13 .
При этом в музее все еще не было исторической экспозиции, а этнологическая экспозиция, оформленная с «экономическим уклоном», должна была, в первую очередь показывать потенциал хозяйственного развития коренных народов Сибири, т. е. обращать зрительское сознание не в прошлое, а в будущее. Коллекция по революционной тематике еще создавалась 14 . Судя по сохранившимся источникам, музей до конца 1920-х гг. практически не работал над поддержанием коллективной памяти новосибирцев о героях и событиях локальной истории. Только в 1928 г. секция ОИС «Человек» подняла вопрос о необходимости начала изучения истории Новосибирска. Соответствующая программа, разработанная Е. Н. Орловой, была близка устремлениям краеведов дореволюционной поры и начала 1920-х гг. и методологическим поискам известного городоведа Н. П. Анциферова 15 . Тогда же музей инициировал создание «Общества изучения купеческих могил», которое существовало вплоть до начала 1930-х, когда было уничтожено, как «реакционное» 16 .
На рубеже десятилетий начался радикальный пересмотр места экспонатов исторического характера в экспозиции. Выразителем крайних взглядов на ее построение выступил в конце 1920-х гг. новый директор Кутафьев, распорядившийся удалить из залов «буржуазный хлам». Так этнографическая и едва появившаяся историческая экспозиции были уничтожены 17. Продолжали выставлять лишь шаманский бубен как олицетворение дикости сибирской жизни до революции и хорошие кулацкие одежды, которые напоминали о непрекращающейся и в современности борьбе с «врагами народа» за социалистические идеалы. Более того, Кутафьев вынашивал радикальную идею «развернуть всю историю природы и общества вокруг трактора». Этот директор музея, как «упрощенец», добившийся лишь «вульгаризации марксистско-ленинской теории» и растворения исторических и этнографических знаний в отделах «промышленность» и «сельское хозяйство», был уволен 18. При нем экспозиция действительно утратила ис- торическую составляющую, став лишь средством упрощенного идеологического воспитания. В 1931 – начале 1933 г. в связи с закрытием музея научно-исследовательская, политико-просветительская, научноучетная и хранительская работа почти не велась 19.
Постоянная, но пока не завершенная экспозиция в новосибирском музее была вновь открыта только в середине 1933 г. По плану экспозиция состояла из отделов: вводного, докапиталистических формаций, капиталистического общества и социалистического строительства (демонстрировали революционные экспонаты и материалы по различным отраслям промышленности и сельского хозяйства) 20. Из плана видно, что все «докапиталистическое» прошлое Западной Сибири предполагалось отобразить крайне обобщенно, а историко-революционный отдел мыслился как неотъемлемая часть показа современного состояния развития Сибири, прежде всего экономического.
Важно, что именно исторические отделы в 1933 г. только планировалось открыть. Из вводного отдела, раскрывавшего основные этапы геологического развития земли и эволюции фауны, посетители попадали в зал, повествующий о развитии промышленности, и, не увидев портретов героев революции и не узнав о происхождении коренных народов Сибири, испытывали разочарование, о чем и писали в книге отзывов. 75 % информации было представлено в «невыразительном» стендовом виде, многие экспонаты казались устаревшими 21 .
В конце 1933 г. все-таки открылся историко-революционный отдел экспозиции. Он состоял из 495 экспонатов, кратко отражавших историю революционного движения в регионе, каторги и ссылки, а также пребывание в Сибири вождей. В экспозиции выделялись небольшие самостоятельные темы возникновения большевистских организаций в Сибири, событий Февральской и Октябрьской революций, Красной армии, политики Временного правительства в Сибири, «колчаковщины», большевистского подполья, партизанского движения, борьбы с бандитизмом. Имелась и тема «Десять лет без Ленина», составленная из портретов и бюста вождя: предполагалось, что посетители должны запомнить его, прежде всего, внешне.
В экспозиции отражались только сюжеты политической истории. Сохранилась фотография части экспозиции, посвященной теме «Октябрь 1917 г.». Она содержала преимущественно визуальные материалы (фото) и несколько текстов документов. В центре – большие равновеликие портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина. Очевидно, что уже в 1933 г. гиперболизация роли И. В. Сталина в революции стала неизбежной.
Композиция была организована концентрическими кругами. Портреты вождей окружали по бокам изображения Я. М. Свердлова, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинского и К. Е. Ворошилова. Над портретами поместили лозунг: «Наша октябрьская революция открыла новую эпоху всемирной истории!». Под портретом В. И. Ленина – выписки из отзывов вождя о Л. Д. Троцком, Г. Е. Зиновьеве и Л. Б. Каменеве. В 1933 г. совсем не упомянуть этих людей было еще нельзя, народ слишком хорошо их помнил, но их фотографии были уже не нужны, запоминать в лицо, судя по всему, зрителям следовало не «врагов народа» и «предателей», а вождей и героев. Под портретом И. В. Сталина поместили выписку из революционной речи В. И. Ленина. Соседство текста речи с портретом И. В. Сталина должно было подводить зрителя к выводу об их полном единомыслии.
Третий (внешний) круг экспонатов состоял из знамени союза грузчиков Томска; мелких портретов «второстепенных» деятелей революции; небольшой статьи о ЦИК Сибири; текстов «Декрета о мире», «Декрета о земле», «Декларации прав народов России» и краткой статьи по истории РСДРП 22 .
Показательно, что в музее краевого значения почти не демонстрировались именно сибирские материалы. Такая экспозиция жестко подчиняла региональную и локальную память о революции обобщенному изложению памяти о революции государственного масштаба. К имеющимся экспонатам планировалось добавить материалы, долженствовавшие свидетельствовать о влиянии на общественное мнение сибиряков работ вождей; о связях регионального рабочего движения со столицей; о событиях
1905 г., о годах «реакции» и об Империалистической войне. Достраивать экспозицию предполагалось в логике, жестко подчинявшей локальную память «большому» государственному нарративу.
Среди вещественных источников времен Гражданской войны в музее выставляли немногие уцелевшие предметы: оружие партизан, знамя полка крестьянской армии, имелись и картины современных художников на военные темы 23 . Но посетителям не нравились малочисленность экспонатов, теснота помещения и слабая подготовка экскурсоводов. В 1933 г. экскурсии проводились вообще не часто (всего 93). Их посетил 2 581 чел., в то время как одиночных посетителей за год зафиксировали 8,9 тыс. 24 Эти данные весьма скромны по сравнению с другими городами. Ясно: новосибирский музей не вызывал массового интереса у населения. Не существовало и низовой сети краеведческих ячеек, музей не координировал работу краеведов-любителей. Ему не хватало места и денег на пополнение фондов.
В 1934 г. комиссия Культпропа Крайкома выявила много идеологических «ошибок» в работе сотрудников музея. Отмечалось, что некоторые темы до сих пор излагались в духе «буржуазной» науки 25 . В 1934 г. музей получил официальное «Положение для областных, краевых и базовых музеев». По этому положению перед музеем не ставилась задача изучения истории края, а задача выявления и сохранение исторических памятников была последней 26 .
В 1937 г. музей закрыли на ремонт и перестройку, которая длилась почти два года. Только перед войной музей совместно с Горсоветом взялся за выявление и учет памятников Новосибирска и произвел реконструкцию обветшавшего памятника героям революции. Судя по годовому отчету, сведения о происхождении памятника уже существенно исказились 27. Составители отчета перепутали многие детали, касающиеся памятника. Отсутствие должного внимания к городским местам памяти со стороны даже таких организаций, в обязанности которых входило политическое просвещение, приводило сначала к упрощению и искажению памяти о революции, а потом и к созданию новой, совершенно оторванной от исторической почвы, версии революционных событий. Показательно, что на 1940 г. запланировали установление памятника на месте расстрела «чехословацкой бандой» руководителей советской власти, фамилии которых были также перепутаны в отчете. В 1939 г. установили ряд мемориальных досок на фасадах зданий, имевших отношение к революции, а также бюст П. Е. Щетинкина, которого считали организатором партизанского движения в Сибири 28.
После ремонта возросла посещаемость музея. В 1938 г. его посетило более 21 тыс. чел., а в 1939 г. – уже более 54 тыс. 29 За это время город вырос по демографическим показателям, уровню образования и просвещения рабочих. Открывались новые выставки, соответствовавшие запросам публики (по истории Новосибирска). Но из-за отсутствия современной исторической литературы о городе музейщикам пришлось пользоваться старыми газетами и устными воспоминаниями, что осложняло достижение требовавшейся схематизации и идеологической четкости выставки 30 . Однако при всей очевидной зависимости музейной экспозиции от «политики памяти», проводившейся государством, стоит отметить, что музей постепенно начал преодолевать проблему отсутствия материалов, связанных с прошлым Западной Сибири. Кроме того, в 1939 г. добавились части экспозиции, раскрывающие общие этапы национальной истории: «Московская удельная Русь» и «Московское государство в период Монгольского ига».
На 1940 г. запланировали открыть еще несколько разделов экспозиции, повествующих о 1917–1918 гг., о Гражданской войне и периоде с 1935 по 1939 г. Последний раздел должен был включать подразделы о стахановском движении, конституции 1936 г., событиях на озере Хасан и подраздел «Если завтра война». В то же время из экспозиции совершенно выпал период с 1920 по 1935 г. 31 Видимо, официальная версия репрезентации революций и Гражданской войны уже сложилась, было понятно и то, как представить последние события, но сложный и неоднозначный период с 1920 по 1935 г. еще не был осмыслен и «придуман».
В 1940 г. было принято решение о введении «единой исторической экспозиции», концепция которой в то время активно обсуждалась в специализированной советской литературе. Но началась война, и для нужд государства пришлось освободить второй этаж музея, снова разрушив экспозицию. Однако накануне войны музей усиленно занялся именно историческим краеведением с привлечением студентов и школьников, возросла его посещаемость и культурномассовая работа. В 1941 г. прошло уже 600 экскурсий, всего музей за год посетили 32 тыс. чел. Таким образом, в канун войны историческая экспозиция новосибирского музея становилась интересной и разносторонней.
Между войнами историческая экспозиция новониколаевского / новосибирского музея неоднократно сворачивалась и выстраивалась заново как из-за идеологических обстоятельств, так и проблем с помещением. Экспозиция не отличалась полнотой и представляла память о прошлом страны и региона в крайне фрагментарном виде. Многообразие аспектов исторической памяти сибиряков не находило отражения в экспозиции, региональных материалов было представлено мало, они не отражали именно своеобразия прошлого Западной Сибири. Отрывочные и «заидеологизированные» элементы исторической экспозиции формировали казенные, однобокие и схематичные представления о прошлом, совершенно не наполненные «человеческим» содержанием. Из них выпадали целые периоды, память о которых не была выгодна государству. Для последнего историческая экспозиция музеев выступала орудием «политики памяти». Однако сухие и бедные образы прошлого, по всей видимости, не могли вызывать у посетителей музея устойчивого познавательного интереса к прошлому региона и глубоких ностальгических переживаний, а лишь способствовали угасанию коллективной памяти горожан о многообразном и лично пережитом прошлом родного края.
THE REPRESENTATION PROBLEMS OF COLLECTIVE MEMORY OF THE PAST IN THE MUSEUM EXHIBITION OF THE STATE WEST SIBERIAN MUSEUM OF LOCAL LORE (1920 – FIRST HALF OF 1941)