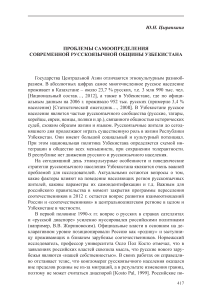Проблемы самоопределения современной русскоязычной общины Узбекистана
Автор: Цыряпкина Ю.Н.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521906
IDR: 14521906
Текст статьи Проблемы самоопределения современной русскоязычной общины Узбекистана
Государства Центральной Азии отличаются этнокультурным разнообразием. В абсолютных цифрах самое многочисленное русское население проживает в Казахстане – около 23,7 % русских, т.е. 3 млн 990 тыс. чел. [Национальный состав…, 2012], а также в Узбекистане, где по официальным данным на 2006 г. проживало 952 тыс. русских (примерно 3,4 % населения) [Статистический ежегодник…, 2008]. В Узбекистане русское население является частью русскоязычного сообщества (русские, татары, корейцы, евреи, немцы, поляки и др.), связанного общностью исторических судеб, схожим образом жизни и языком. Русскоязычные жители до сегодняшнего дня продолжают играть существенную роль в жизни Республики Узбекистан. Они имеют большой социальный и культурный потенциал. При этом национальная политика Узбекистана определяется схемой интеграции в общество всех меньшинств, при сохранении толерантности. В республике нет движения русского и русскоязычного населения.
На сегодняшний день этнокультурные особенности и поведенческие стратегии русскоязычного населения Узбекистана являются очень важной проблемой для исследователей. Актуальными остаются вопросы о том, какие факторы влияют на поведение населяющих регион русскоязычных жителей, каковы параметры их самоидентификации и т.д. Важным для российского правительства в момент закрытия программы переселения соотечественников в 2012 г. остается вопрос развитии взаимоотношений России и «соотечественников» в центральноазиатском регионе в целом и Узбекистане в частности.
В первой половине 1990-х гг. вопрос о русских в странах сателлитах и «русской диаспоре» усиленно муссировался российскими политиками (например, В.В. Жириновским). Официальные власти в основном на декларативном уровне позиционировали Россию как «родину» и заступницу проживающих в ближнем зарубежье соотечественников. Норвежский исследователь, профессор университета Осло Пол Косто отмечал, что в заявлениях российских властей сквозила мысль, что русские нового зарубежья являются «нашей собственностью». В своих работах он справедливо отстаивает тезис, что конгломерат русскоязычного населения оказался вне пределов родины не из-за миграций, а в результате изменения границ, поэтому не может считаться диаспорой [Kosto Pal, 1999]. Российские по- литики напрасно манипулировали популярными лозунгами защиты соотечественников в ближнем зарубежье накануне выборов для привлечения электората.
А как позиционируют себя по отношению к русскоязычному населению власти Республики Узбекистан? В государственном дискурсе превалирует территориальная идентичность и гражданский национализм над этнической идентичностью, что позволяет полностью включать в общественнополитические отношения всех проживающих на территории республики, без учета этнической принадлежности. Никто не задумывается о судьбе находящихся за пределами Узбекистана соотечественников (например, в Таджикистане и Киргизии). Узбекистан принял концепцию отношения к соотечественникам, отличную от России или того же Казахстана [Fumagalli Matteo, 2007], которые открывали программы по их переселению на «историческую родину» (оралманы в Казахстане). События июня 2010 г. в г. Оше показали, что узбекское руководство не связывает узбеков, пострадавших на юге Киргизии во время кровавых событий, с Узбекистаном и не желает вмешиваться во внутренние дела соседа. В самом Узбекистане население, вне зависимости от этничности, оказавшиеся в республике после 1991 г. (лица, отказавшиеся от гражданства, но вернувшиеся в республику в постсоветский период), не имеют никаких шансов получить или восстановить гражданство. Оно дается только по праву рождения на территории Республики Узбекистан. В этом смысле русскоязычное население, принявшие после распада СССР узбекское гражданство, является неотъемлемой частью общества. Чрезвычайно остро стоит проблема их самосознания.
Поставив задачу охарактеризовать русскоязычное сообщество Узбекистана, автор вел полевую работу с 2011 г. преимущественно в Ташкентской области. Основные задачи заключались в выявление различных уровней идентификации русскоязычного населения (русские и татары) и их поведенческих стратегий. Первое, что бросилось в глаза: российские фонды, институты и культурные центры не пользуются большим авторитетом или популярностью среди русскоязычных граждан, зачастую и не подозревающих об их существовании. В 1994 г. в Ташкенте при непосредственном участии посольства Российской Федерации создан Русский культурный центр (далее РКЦ). В дальнейшем его отделения открылись практически во всех городах республики, даже в самых отдаленных (Нукус, Хорезм и др.).
Основной задачей РКЦ стало сохранение русской культуры, российских праздников, оказание помощи пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны. С конца первого десятилетия XXI в. у РКЦ появилась еще одна важная образовательная функция – способствовать поступлению школьников в российские вузы на бюджетной основе. Благодаря активной образовательной деятельности вокруг РКЦ стали объединяться не только представители русскоязычных меньшинств, но и узбеки, таджики. Следует уточнить, что воспользоваться коммерческими курсами по подготовке к поступлению в российские вузы смогли в основном столичные жители.
Интересны позиции самих респондентов по поводу роли России во взаимоотношениях с соотечественниками в Узбекистане. Это значение респондентами либо отрицается, либо оценивается в негативном свете. По крайней мере, респонденты транслировали индифферентное отношение к родине. С Россией лишь связаны надежды на улучшение социально-экономического положения (трудовая миграция и т.д.), перспективы получения образования. Лаконично это было выражено жителем Ташкентской области (татарин 39 лет): «Хорошо в России деньги зарабатывать, а здесь тратить» . В ходе этого интервью отчетливо проявлялась позиция респондента и эмоциональная привязка к Узбекистану как к родине, несмотря на различные социально-экономические катаклизмы.
Другой пример осознанного отношения к России и способам ее инсти-туциализации в Узбекистане высказал респондент Н.Р. (татарин, 75 лет): «… положение у русскоязычных неодинаковое. Например, у немцев за спиной Германия, у корейцев – Корея, и тут очень хорошо представлена сама Корея, ну, Южная Корея. Завод тут есть в Андижане, автомобиле-сбо-рочный, что ли будем говорить, совместное предприятие с корейцами…. а у русских никого нет ». Он вспомнил случай с сыном, имеющим российское гражданство и столкнувшимся с бюрократической волокитой по приезду в республику, который не нашел поддержки в Российском посольстве в Узбекистане.
Другой пример привязки к Узбекистану как к родине проявился в интервью молодой русской женщины Е.Х. (34 года, Ташкентская обл.): « Я такой оседлый человек… Сейчас уже мне страшно куда-нибудь переехать в другой город, в другое место. Здесь я родилась, здесь у меня много знакомых, здесь все мое. Я здесь своя. Мне здесь гораздо уютнее» . Правда, в дальнейшем Е.Х. упомянула, что, возможно, придется переехать из Узбекистана из-за детей, т.к. шансы получить образование на бюджетной основе здесь крайне малы. У этой семьи не было желания воспользоваться программой переселения соотечественников в Российскую Федерацию. Для большинства респондентов «Россия чужая». Это слова молодой женщины О.П. (38 лет), которая в начале 1990-х гг. прожила в России один год и даже приняла российское гражданство, но вернулась обратно в Узбекистан.
Материалы, полученные на основе полевых исследований 2009– 2012 гг. позволяют утверждать, что в Узбекистане практически не сложились предпосылки для консолидации русскоязычного населения на этнической основе. Условия социально-экономического развития Узбекистана приводят к тому, что все социальные коалиции интернациональны по составу. Поступить в российские вузы для обучения на бюджетной основе стремятся и русские, и узбеки, и таджики, и татары и т.д. В трудовой миграции в Россию участвует в первую очередь титульное население. На бытовом уровне складывается прочное осознание того, что экономический кризис задевает каждого, не зависимо от этнической принадлежности и др. факторов.
В целом, можно констатировать, что русскоязычные нетитульные меньшинства, проживающие в сложных экономических условиях Ташкентской области, осознают себя частью узбекского общества и никакой привязки к России как к родине не имеют. Среднеазиатское сообщество русскоязычных представляет собой сложную мозаику региональных, социальных и этнокультурных идентичностей внутри одной группы и требует дальнейшего пристального изучения не как целостная группа.