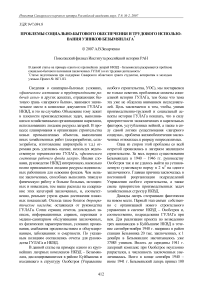Проблемы социально-бытового обеспечения и трудового использования узников безымянлага
Автор: Захарченко А.В.
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.9, 2007 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на примере одного из крупнейших лагерей НКВД - Безымянлага раскрывается проблема социально-бытового положения заключенных ГУЛАГа и их трудовая деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/148197953
IDR: 148197953 | УДК: 947.084.8
Текст научной статьи Проблемы социально-бытового обеспечения и трудового использования узников безымянлага
Поволжский филиал Института российской истории РАН
В данной статье на примере одного из крупнейших лагерей НКВД – Безымянлага раскрывается проблема социально-бытового положения заключенных ГУЛАГа и их трудовая деятельность/
-
*Статья подготовлена при поддержке Самарского областного гранта студентам, аспирантам и молодым ученым. Проект № 16Г1.1П.
Сведения о санитарно-бытовых условиях, « физическом состоянии и трудопригодности рабочей силы » и других аспектах, отражающих бытовую грань «лагерного бытия», занимают значительное место в комплексе документов ГУЛАГа НКВД, и это не случайно . Объяснение тому лежит в плоскости производственных задач, выполнявшихся хозяйственными организациями наркомата, использовавших людские ресурсы лагерей. В процессе планирования и организации строительства новых промышленных объектов, выполнения иных хозяйственных работ (лесоразработки, сельхозработы, изготовление ширпотреба и т.д.) огромная роль уделялась оценке, используя ведомственную терминологию ГУЛАГа, « физического состояния рабочего фонда лагеря ». Иными словами, руководство НКВД интересовало, насколько полно привлекаются людские ресурсы подневольных работников для освоения фондов. Чем меньше заключенных, способных выполнять тяжелую физическую работу и больше больных, истощенных и инвалидов, тем выше расходы на содержание этих категорий заключенных, и, соответственно, реальнее угроза срыва достижения плановых показателей. Отсюда такое богатое бюрократическое наследие, оставшееся от руководства ГУЛАГа. Сотни страниц отчетов, докладных записок, информационных справок, переписки о медико-санитарном обслуживании заключенных, их физических характеристиках, условиях проживания, снабжения продовольствием и обмундированием, заболеваниях и смертности. По указанным позициям составлялись отчеты для руководства ГУЛАГа и НКВД.
В данной статье на примере одного из крупнейших лагерных комплексов НКВД – Безымян-лага, дислоцировавшегося в районе Куйбышева и входившего в структуру Особстроя (Управление особого строительства, УОС), мы постараемся не только осветить проблемные сюжеты социальной истории ГУЛАГа, тем более что тема эта уже не обделена вниманием исследователей. Цель заключается в том, чтобы, увязав производственно-трудовой и социальный аспекты истории ГУЛАГа показать, что в силу приоритетности экономических и карательных факторов, усугубленных войной, а также в силу самой логики существования «лагерного социума», проблема жизнеобеспечения заключенных относилась к разряду непреодолимых.
Одна из сторон этой проблемы со всей остротой проявлялась в лагерном жилищном строительстве. За весь период существования Безымянлага в 1940 – 1946 гг. руководству Особстроя так и не удалось выйти на установленную гулаговскую норму в 2 м2 на одного заключенного. Главная причина заключалась в постоянной реорганизации подразделений Управления особого строительства, а также смене приоритетов производственных задач хозяйственных структур НКВД.
Дважды лагерь отстраивали фактически на новом месте . Первый этап связан собственно с организацией нового строительного управления в системе НКВД – Особстроя и, соответственно , подразделения ГУЛАГа при нем. Для реализации проекта по возведению трех авиазаводов в Куйбышеве НКВД в течение сентября-ноября 1940 г. направил в район станции Безымянка 20 тыс . заключенных, к 1 декабря в Безымянлаге насчитывалось уже 37085 узников. Вплоть до середины 1941 г. лагерный комплекс при Особстрое неуклонно разрастался, а численность заключенных увеличивалась. Всего в конце сентября 1940 – июне 1941 г. Безымянский лагерь принял 100
782 заключенных1. При таких темпах приходилось строить быстро и дешево, зачастую без проектов, не отягощаясь качественной стороной дела. Если в таких лагерных подразделениях, как Безы-мянский и Зубчаниновский участки, принятых от Управления строительства Куйбышевского гид-роузла2, имелся жилищный фонд, состоящий из каркасных засыпных бараков, то в новых участках в спешном порядке рылись землянки, санитарногигиеническое состояние которых не вписывалось даже в «гулаговские» стандарты, о чем свидетельствует крайняя перенаселенность жилых объектов. К концу 1940 г. в бараках на одного человека приходилось в среднем по 1 м2, в землянках – 0,8 м2. Заключенные там размещались на сплошных нарах, расположенных в два яруса. Возведение лагерных помещений явно не поспевало за ростом лагерного населения, поскольку руководство НКВД стремилось в короткий срок обеспечить строительство авиазаводов рабочей силой. Так, в середине февраля – марте 1941 г. количество заключенных увеличивалось в среднем на тысячу человек в день ; соответственно , населенность лагерных поселков Безымянлага не достигала положенной нормы – 2 м2 на человека3, а в отдельных бараках доходила до 0,4 м2.
Начавшаяся война повлекла за собой серьезные изменения в бытовом аспекте жизни обитателей Безымянлага. Летом-осенью 1941 г. в Куйбышев потянулись эшелоны с работниками эвакуированных авиационных заводов. Для обеспечения их жильем Особстрой передает свои лагерные помещения, уплотняя оставшиеся и без того перенаселенные бараки. Уже приказом от 11 октября 1941 г. начальник УОС А.П.Лепилов обязал передать в распоряжение Наркомата авиационной промышленности не позднее 15 октября жилые лагерные помещения трех лагерных участков общей площадью 30 тыс. м2, а 17 декабря вышло распоряжение передать для авиастроителей по одному лагерному участку от 1-го и 4-го строитель- ных районов4. В первом квартале 1942 г. Особ-строй передал Наркомату авиационной промышленности 8 участков с жилищнобытовыми постройками. В этом и кроется ответ на вопрос , почему численность заключенных в Безымянлаге в связи с досрочным освобождением и отправкой на фронт, переводом на другие гулаговские стройки сократилась в 1,5 раза (на 31 тыс. человек в I квартале 1942 по сравнению с IV кварталом 1941 г.), а переуплотнение в бараках, землянках и палатках осталось почти без изменений – 1,4 м2 на одного лагерника5. В условиях военного времени руководство Особстроя компенсировало незавершенное строительство городка для десятков тысяч прибывающих на авиазаводы рабочих передачей части барачного фонда Безы-мянлага. Согласно докладной записке, направленной секретарем Куйбышевского обкома В.Д.Никитиным 27 марта 1942 г. на имя секретаря ЦК ВКП (б) Г.М.Маленкова, наркомов внутренних дел Л.П.Берия и авиационной омышленности А.И.Шахурина, из 155 тыс. , выделенных авиастроителям под жилье на
Безымянке 60% приходилась на бараки бывших лагерных участков , ранее занимавшийся заключенными6.
Второй этап реорганизации Безымянлага связан с изменением производственных задач Особстроя. 15 июня 1943 г. приказом начальника УОС НКВД СССР А.П.Лепилова объявлялось о передислокации Управления на новую площадку в районе железнодорожной станции Кряж, где планировалось возведение нефтеперегонного завода, в связи с чем с 10 июля 1943 г. развернулось новое лагерное строительство . Несмотря на то, что организация А.П.Лепилова располагала всего 8,4 тысячами заключенных (в десять раз меньше, чем два года назад) и имела богатый опыт строительства социально-бытовых объектов, Безы-мянлаг был перенаселен. Заключенные, как правило, жили либо в утепленных палатках, либо в бараках с двухъярусными сплошными нарами, где на каждого приходилось в среднем чуть более одного метра жилья7. Положения не меняли и указания высокого начальства. 12 мая 1944 г. начальник ГУЛАГа НКВД СССР комиссар госбезопасности III ранга В.Г.Наседкин в специальном письме Лепилову потребовал в течение четырех месяцев ликвидировать скученность в бараках и «довести норму полезной жилплощади до 2 м2 на заключенного» в соответствии с приказом НКВД СССР 1943 г. за №0033 «О сохранении и улучшении физического состояния заключен-ных»8. Однако распоряжение начальника строительства его заместителю по лагерю А.Н.Фадееву выполнить требование Наседкина на положение с жильем не повлияло. Вместе с тем, решение этой проблемы, на наш взгляд, находилось за рамками возможностей администрации Особстроя и лично Лепилова, талантливого руководителя, за плечами которого уже имелся опыт освоения миллиардных капиталовложений. Вопрос заключался в приоритетах. Сама организация и деятельность подразделений НКВД, в том числе и ГУЛАГа, привлеченных к реализации хозяйственных задач, была ориентирована, прежде всего, на выполнение производственного плана и самоокупаемость . Война укрепила эту установку. В условиях общего сокращения фондов даже такие крупные хозяйственные организации, как Особстрой, вынуждены были перераспределять ресурсы за счет снижения расходов, не связанных напрямую с производственными нуждами. Помимо этого Управление особого строительства продолжало передавать лагерные социальные объекты на баланс других организаций и в частности еще строившегося нефтеперегонного завода №443. В 1944 г. Особстрой передал нефтяникам основной жилой фонд Безы-мянлага, переведя порядка пяти тысяч заключенных в палатки. В начале октября с наступлением холодов выполнение работ по новым коммунально-бытовым помещениям колебалось от 25 до 40%. Как сообщалось в записке заместителю Наркома внутренних дел Л.Б.Сафразьяну о выполнении планов лагерями по подготовке к зиме 1944/1945 гг., на 6784 м2 жилплощади Безымян-лага проживало 8553 человека9, соответственно, лимит перенасе-ленности бараков был превышен более чем в двое.
Безусловно, вопрос о перенаселенности Бе-зымянлага не выступал в качестве самостоятельной социальной проблемы. Руководство Особст-роя, в первую очередь, волновало количество вы- веденных на работу заключенных, их физические кондиции, а также по возможности наличие необходимых профессиональных навыков. Иными словами, в период наиболее интенсивного строительства (1941 год) Безымянлаг старались пополнять по возможности здоровыми заключенными, желательно владевшими производственными специальностями, по статьям осуждения не относившимися ни к политическим , ни к уголовникам-рецидивистам, а отбывавшим наказание за бытовые преступления. Однако напряженный труд и низкокалорийное питание неуклонно сокращали численность работоспособных узников . Судя по лагерной медицинской статистике, в 1940 и первой половине 1941 г. внешние факторы, связанные непосредственно с производством, выводили заключенных из строя. Это, прежде всего, травматизм, болезни кожи и подкожной клетчатки. Но уже с конца 1941 до первой половины 1943 г. истощение, цинга, болезни органов пищеварения – непременные спутники лагеря.
Начавшаяся война вынудила партийно -политическое руководство пересмотреть сроки завершения работ по группе авиационных предприятий. Были ускорены темпы строительства. После того, как 8 октября 1941 г. ГКО постановило эвакуировать заводы из Москвы и Воронежа в Куйбышев, стройка на Бе-зымянке приняла авральный характер , что повлекло за собой и увеличение трудовой нагрузки на подневольную «рабсилу» Особстроя. Только официальная продолжительность рабочей смены составляла 11 часов . Как свидетельствуют архивные документы, лагерная администрация и руководители строительных участков, да и связанные с ними медработники прибегали к сознательному нарушению правил по трудоиспользованию узников. Наряду с регулярно повторяющимися случаями увеличения рабочего дня больных и истощенных заключенных направляли на тяжелые работы, сутками держали на стройке на морозе без пищи10. В результате росло количество смертельных случаев , многие заключенные стано -вились инвалидами. Страдания советских людей в годы войны, связанные с тяжелейшим трудом в тылу и полуголодным существованием преломлялись в лагерях еще более отчетли-
-
10 СО ГАСПИ, ф.1817, оп. 1, д. 67, л. 15.
во , поскольку там суровые условия военного времени усугублялись невзгодами режима и изоляции. Документы Безымянлага рисуют трагическую картину жизни его узников, которые, как отмечал 20 декабря 1941 г. в своей записке начальник оперативного отдела Чередниченко, постоянно сталкивались с фактами «бездушного , издевательского отношения со стороны руководящих работников лагерных подразделений»11. Тот или иной физический недуг не давал никаких гарантий освобождения от тяжелых работ. Больных, отказывавшихся работать, сажали в штрафной изолятор на урезанный паек, основная часть которого состояла из 300 гр. хлеба и 350 гр. овощей в сутки. На строительство выводили даже инвалидов, больных дистрофией, которые по прошествии нескольких дней или даже часов умирали в больнице , куда их прямо с производства приносили уже в лежачем состоянии12. Подобную жестокость чаще всего демонстрировали лагерные работники, сами в прошлом отсидевшие срок за совершенные преступления . В совокупности с общим сокращением продовольственного снабжения заключенных (с июня 1941 по май 1942 г. в Безымянлаге дважды в сторону снижения менялись нормы питания)13 непрекращающееся воровство продуктов хозобслугой и администрацией лагерных подразделений – районов и участков – приводили к истощению даже относительно здоровый «контингент».
Обозначенные причины, действие которых влекло к массовому ухудшению физического состояния заключенных Безымянлага (низкокалорийное питание и злоупотребления в продовольственном обеспечении лагерей Особстроя при постоянном увеличении физической нагрузки на организм), можно дополнить еще несколькими. Так, вынужденные простои бригад заключенных (не подвезли стройматериалы, не явился вовремя руководитель работ) приводили к тому, что вся бригада (в ГУЛАГе широко применялся принцип круговой поруки) автоматически переводилась на «штрафной котел» питания. Не были исключением случаи, когда лагерные работники, дабы «очистить» зону от ненужного балласта больных и истощенных, направляли их прямой дорогой в штрафной участок усиленного режима на карьерные разработки, где они, как отмечал на январской партконференции Особстроя в 1941 г. начальник Мехзавода Шкаренков, «умирали от физического истощения»14.
Неправильная организация восстановления трудоспособности ослабевших лагерников способствовала росту инвалидности и смертности, поскольку в так называемые КВНТ (команды временно нетрудоспособных) направляли с различной степенью ослабления организма, в том числе и тех, кто нуждался больше в стационарном лечении. Так как в Безымянлаге в 1941 г. уже оформилась устойчивая практика привлечения подобных команд к работам без учета различия в состоянии здоровья заключенных, шансы на выздоровление страдавших дистрофией были невелики и дальнейший их путь : либо в стационар с еще более тяжелой формой ослабления организма, либо на лагерное кладбище. Даже те, кто проходил «курс реабилитации», после недолгого труда на стройке в качестве «физически полноценных работников» вновь возвращались в КВНТ15. Большинство же прошедших через эти команды пополняли ряды тех, кого гулаговская статистика относила в группу «легкого труда». Таких работников администрация Особстроя могла использовать либо в качестве обслуживающего персонала Безымянлага, либо на сельхозработах в лагерных совхозах «Хорошенькое» и «Кряж». Однако по своему строительно-производственному профилю, организация А.П.Лепилова нуждалась, прежде всего, в относительно здоровых рабочих, способных трудится на строительстве и обслуживающих его подсобных предприятиях – кирпичных, цементных заводах, каменных и песчаных карьерных разработках, лесобир -жах, лесорамах и т.д.
Сейчас мы можем с полным основанием утверждать, что конец 1941 – начало 1942 г. стал самым трагичным для узников Безы-мянлага. В течение двух лет (с 1 июня 1941 по 1 июля 1943 г.) в лагере умерло 11165 заключенных, и 42% от этого числа, или 4732 смертельных случая приходится на ноябрь 1941 – январь 1942 года16, то есть на период наивысшего напряжения сил на строительстве комплекса авиазаводов, на площадки которых уже стали прибывать эшелоны с рабочими и оборудованием эвакуированных предприятий. При таких обстоятельствах руководство Особстроя было поставлено перед серьезнейшей проблемой. Любая задержка в сроках сдачи объектов на баланс Наркомата авиапромышленности вела в условиях войны к тяжелым последствиям. Строящиеся под Куйбышевом в районе станции Безы-мянка самолетостроительные и авиамоторный заводы №122, 295 и 337 решено было объединить с вновь прибывшими заводами из Москвы и Воро -нежа (№ 1 им. Сталина, № 18 им. Ворошилова и №24 им. Фрунзе), поскольку для организации в одной области сразу шести крупнейших заводов у политического руководства страны не хватило бы ни материальных, ни людских ресурсов . Таким образом, на Безымянке должно было остаться три единственных в стране предприятия (два самолетостроительных и авиамоторный заводы), выпускавших самолеты-штурмовики «Ил-2». Следовательно выбора у начальника Особстроя А.П.Лепилова практически не было: либо максимально напрячь силы и сдать заводы в срок, т.е. к концу декабря 1941 – началу января 1942 г., либо сохранить контингент Безымянлага в более или менее работоспособном состоянии при угрозе невыполнения задания. Возможность второго варианта исключалась сразу. Ведь строительство, которым руководил Лепилов , по своим масштабам и затратам (более 800 млн рублей) превышало любую другую стройку НКВД на тот момент, ресурсов на него не жалели, соответственно, затяжка со сдачей заводов могла обернуться для руководства Особстроя и Безымянлага вполне конкретными оргвыводами. Поэтому администрация ориентировала и аппарат строительных районов и участков, и сотрудников Безымянлага на скорейшее выполнение плана. Излишнее усердие в этом деле и обернулось злоупотреблениями , которые «надорвали лагерный контингент». На одном из совещаний работников лагерных подразделений, специально созванном начальником УОС НКВД 23 декабря 1941 г. для обсуждения вопроса о состоянии работы в Безымянлаге, начальник оперативного отдела Чередниченко прямо заявил о садистских проявлениях в отношении заключенных со стороны некоторых заместителей начальников районов по лагерю и начальников лагерных участков, «потерявших партийную душу»17. Массо- вое истощение и стремительный рост смертельных случаев повергли в растерянность многих медицинских работников лагеря. Так, на проходившем 23 января 1942 г. в IV районе Особстроя собрании, посвященном санитарному лечению в лагерях, в своих выступлениях врачи прямо заявляли о том, что не в силах исправить ситуацию, а начальник санотдела района Кривенко высказался категоричнее всех: «У нас две группы деградированного состояния и ни стационар, ни КВНТ не в состоянии их выпустить на оздоровление, это известная смертность , потому что мы имеем слишком глубокий процесс разложения организма, эти люди безнадежны… Мы не можем сказать, сколько именно безнадежных…, люди пришли в такое состояние, что мы вряд ли их можем воскресить»18.
Если посмотреть, насколько изменилось положение в Безымянлаге в течение года с декабря 1941 по декабрь 1942 г. (на основании анализа соответствующих докладных записок оперативного отдела), то можно констатировать наличие старых, хронических для всего ГУЛАГа проблем: нарушение трудового режима и использование ослабленных заключенных на непосильных работах; простои на производстве, автоматически приводившие к переводу подневольных рабочих за невыполнение нормы на 1-й, самый низкий по калорийности котел питания; воровство продуктов лагобслугой ; массовые отправки в изолятор и зоны усиленного режима за незначительные проступки или даже отсутствие таковых; вывод на работу в мороз без зимней одежды и обуви и т.д.19, и, как результат, рост истощенных и умерших. Безусловно , этому продолжала способствовать и объективная в условиях войны причина – скудный паек не компенсировал затраченных на производстве сил, а калорийность его неуклонно снижалась . С одной стороны, набор продуктов, заложенных в установленные ГУЛАГом нормы, и по энергетической ценности, и по объему не уступал и даже превосходил нормы снабжения вольнонаемных рабочих. Если сопоставить по отдельным продуктам питание вольнонаемных работников предприятий оборонного строительства, металлургии, угледобывающей промыш- ленности и других заводов, выполняющих оборонные заказы, и заключенных Безымянлага (в середине 1942 г.), снабжавшихся по «третьему котлу», (т.е. работающих на тяжелых работах и выполняющих производственные нормы на 100 – 125%), получается следующее соотношение: хлеб – 800 гр. в сутки и вольнонаемные и заключенные; жиры – вольнонаемные 400 гр . в месяц , заключенные – 450 гр.; крупы и макароны в сутки – 40 и 85 гр.; мясо и рыба в сутки – 60 и 135 гр. Однако по «третьему котлу» снабжались в среднем за 1942 – 1945 гг. – от 15 до 25% заключенных. Основная часть лагерников получала «второй котел» (выполнение нормы от 80 до 99% на тяжелых работах и на 100 – 125% на остальных работах). По этой норме узникам полагалось в сутки: макаронных изделий и крупы – 75 гр., мяса и рыбы 115 гр., жиров (в месяц) – 360 гр., хлеба – 600 гр.20. Однако в реальности установленные нормы не выдерживались ни по качеству, ни по количеству. Если в I квартале 1942 г. калорийность «первого котла» (для лагобслуги и тех, кто не выполнял нормы) составляла 1600 – 1700 к/кал, «второго котла» (для выполнявших норму) – 2600, «третьего» (для передовиков) – 3000 к/кал, то через год качество питания снизилось до 1231, 1735 и 2311 к/кал соот-ветственно21. Учитывая, что медработники Безы-мянлага оценивали потребность организма в состоянии покоя в 2000 к/кал, и то, что большинство лагерного населения получало питание по «второму котлу» – размер «пайки» узника не давал надежд на полное восстановление сил. Тем более, как, пожалуй, и в других лагерях, в Безымянлаге сложилась устойчивая практика замены одних продуктов другими, что, в свою очередь, приводило к сокращению витаминного рациона. Полагавшееся по 1 – 3 нормам мясо (белок которого является основным строительным материалом для мышечной ткани, что очень важно для тех, кто выполнял тяжелые работы при смене в 11 и более часов) заключенным практически не выдавали или заменяли его либо мелкой рыбой, либо крупой. Картофель часто заменялся капустой, а отсутствие овощей весной-летом – опять же крупой. Что касается сахара, который также учитывался в гулаговских нормах, то его не получали даже исто- щенные и стационарные больные22. Прибавим сюда неотъемлемую черту лагерного социума – воровство продуктов из и так более чем скудного рациона заключенных, и станет вполне понятным , почему цинга в Безымянла-ге периодически давала о себе знать .
Осознавая тот факт, что реализовать поставленные правительством и НКВД задачи Особстрой вряд ли сможет, привлекая к труду больных и истощенных, которые к началу 1943 г. составляли треть лагерного контингента, Лепилов в переписке с руководством НКВД обосновывал необходимость выделения дополнительных фондов на продовольственное снабжение Безымянлага. В письме заместителю наркома внутренних дел Круглову и начальнику ГУЛАГа Наседкину он просил увеличить хотя бы на I квартал 1943 г. нормы питания для своего лагеря на 15%. При этом сам начальник Особстроя, чтобы как-то выправить ситуацию, вынужден был собственным решением сократить рабочий день для заключенных, трудившихся на открытых работах, до 8 часов, а также снизить плановые нормы выработки до общегражданских, отменив так называемые поправочные коэффициенты, практикуемые в ГУЛАГе23. Сам тон письма, начинавшегося со слов «физическое состояние контингента Безымянского лагеря, работающего с максимальным напряжением при сокращенных нормах питания, значительно ухудшилось и находится в резком несоответствии с предстоящими Особому Строительству работами», и просьба о помощи продовольствием, и личные инициативы начальника УОС с пересмотром норм и рабочего дня говорят о том, насколько угрожающее положение сложилось в Безымянлаге. Основания для тревоги у Лепилова имелись, поскольку прошедший 1942 год стал самым «урожайным» по количеству смертельных случаев. Было время (в начале 1942 г.), когда похоронная команда, состоявшая из сотни человек, просто не успевала хоронить тела умерших, и их просто складывали на кладбище в районе участка Мехзавод24.
Исходя из наших подсчетов , приведенных в наблюдалась именно в 1942 г. таблице 1, наибольшая смертность в Безымянлаге
Таблица 2. Численность заключенных Безымянлага в 1942 – 1946 гг.
|
1.1.45 |
1.5.45 |
1.11.45 |
1.1.46 |
1.3.46 |
|
6892 |
10680 |
6319 |
5963 |
5840 |
Таблица1.1. Смертность в Безымянлаге в 1940 – 1945 гг.
|
Год |
1940 (октябрь-декабрь) |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 (январь-ноябрь) |
всего |
|
Кол-во умерших |
312 |
4923 |
5687 |
1778* |
91 |
107 |
12898 |
Подсчитано по материалам: ГАСО, ф. 2064, оп. 2, д. 11, л. 1, д.47, л. 38-41, 97, 100, 106,123. оп.1.д. 198, л. 40, 78, оп .2, д. 83, л. 48,63,75, 88,89,96, 99, 113, 119,123, 138. Оп.2. д.98 Л. 6, 13, 18, 45, 59, 64, 69, 83, 87, 99, 103, 108, 114. Оп. 2. д. 118. Л. 8, 12, 27, 35, 48; ГАРФ. Ф. 9414. оп. 1, д. 1181, л. 21. *Включая 355 освобожденных узников, которых по состоянию здоровья уже невозможно было вывезти из лагеря.
|
Дата |
25.3.42. |
18.8.42 |
31.12.42 |
1.3.43 |
1.5.43 |
1.8.43 |
1.11.43 |
1.5.44 |
1.10.44 |
|
Кол-во |
51113 |
40500 |
29811 |
23161 |
16827 |
7560 |
6135 |
7332 |
7169 |
Подсчитано по материалам: ГАРФ. 9414. Оп. 1. Д. 30. Л. 245. Д 1258. Л. 8. ГАСО. Ф. 2064. Оп. 1. Д. 198. Л. 103, 106, 115, 123, 131,141. Оп. 2. Д. 83. Л. 49, Д. 84. Л. 27, Д. 202. Л. 12 об, 17, 29,33. СОГАСПИ. Ф. 1817. Оп.1 Д. 47. Л. 31
Приведенные цифры на региональном материале подтверждают данную статистику по ГУЛАГу в целом о пике смертельных случаев за период войны25. Стоит, однако, иметь в виду, что положение Безымянлага, несмотря на то, что там умерло 6% от среднесписочного состава заключенных (5687 человек), отличалось в выгодную сторону от ситуации в других главках НКВД, занимавшихся хозяйственной деятельностью . По этой печальной статистике, он в 1942 г. стоял последним в списке, в то время как, например, в Главном управлении лагерей лесной промышленности умерло более 70 тысяч человек или почти 19% от всего лагнаселения26.
Сопоставление же динамики смертности и изменений в численности заключенных Безымян-лага за 1942 – 1945 гг. (таблица 2), казалось бы, выявляет тенденцию к снижению количества умерших.
Имеющиеся данные о физическом состоянии заключенных также дают основания утверждать, что показатели по такой графе, как «состояние фонда лагерной рабсилы», после 1943 г. улучшались.
Если на 1 мая 1943 г. в Безымянлаге имелось по группе «В » (освобожденные от работ больные) 31,6% от общего числа заключенных, то через год этот показатель снизился до 11,6%, на 1 июня
1945 он составил 10,4%, к 1 октября сократился до 10,1%. Кроме того, если принять во внимание, что с июня 1941 по 1 июля 1943 г. из Безымянлага по досрочному освобождению на фронт ушли 71000 заключенных (к ним следует прибавить и 2500 поляков, освобожденных по амнистии)27, в большинстве своем здоровых, то положительную динамику, характеризующую физическое состояние лагерного населения, следовало бы признать еще более устойчивой.
Однако, мы полагаем, следует более критично подходить к анализу такого рода данных. Во-первых, как было показано, питание заключенных не стало сытнее, а условия труда оставались тяжелыми . Во-вторых (и это, пожалуй, самое главное), руководство Особст-роя периодически освобождалось от ненужного балласта – инвалидов и тяжелобольных, передавая их исправительно-трудовым колониям. Дабы не обременять лагерные участки содержанием нетрудоспособных заключенных, в Безымянлаге, как и в целом по ГУЛАГу, практиковалось выделение для них специальных лагерных пунктов, инвалидных городков, лазаретов и т.д. В разное время роль таких специальных зон выполняли отдельный Красно-глинский участок, Ширяевский инвалидный участок Жигулевского района, 5 и 6 инвалид-
27 ГАСО. Ф.-Р 2064, оп. 2. д. 203, л. 78, 81.
ные участки Конторы подсобных предприятий, 2й лагпункт Жигулевского лаготделения. Сведение в компактные лагерные поселки нетрудоспособных узников позволяло руководству Особстроя и Безымянлага целиком передавать такие структурные подразделения на баланс УИТЛК (Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний) УНКВД по Куйбышевской области. 16 мая 1942 г. Особстрой передал УИТЛК Ширяевский лагерный участок Безымянлага с 1562 заключенными, из которых 896 инвалидов и 657 человек, пригодных только к легкому труду28. В мае 1943 г. лагерный комплекс при Особстрое сократился еще на 5 подразделений, когда в период с 5 по 16 мая УИТЛК Куйбышевской области были переданы: 3-й отдельный лагерный участок «Жилстрой», отдельный лагпункт «Киркомбинат», инвалидный лагпункт Жигулевского лагерного отделения «Царев Курган», лагерный участок при совхозе «Красный Пахарь» и подкомандировка 2-го лагерного участка «4-я просека». Общая численность заключенных в них – 5576. О физическом состоянии контингента говорят следующие цифры: только 1692 человека из передаваемых лагерных подразделений можно было использовать на производстве и строительстве . В числе остальных 1559 человек, отнесенных к категории «легкого труда», 1068 инвалидов и 1453 истощенных узника, которые числились полностью нетрудоспособ-ными29. При этом руководство Особстроя накануне передачи лагерных подразделений Безымянла-га на баланс УИЛТК побеспокоилось об улучшении показателей по «трудоспособной рабсиле», изъяв из передаваемых лагерей здоровых заключенных, заменив их очередной партией истощен-ных30. 2 января 1944 г. Безымянлаг в очередной раз разгрузили от неполноценной рабочей силы. В УИТЛК по Куйбышевской области был передан Красноглинский участок с 362 заключенными, из которых около 300 инвалидов и истощенных31.
Другой канал оттока «бесполезных», с точки зрения потребностей Особстроя заключенных, – досрочное освобождение инвалидов, признанных полностью непригодными к труду. Как правило, освобождали тех, чей срок уже истекал, а также осужденных не за тяжелые преступления. Таким образом, в период с 1 июня 1941 по 1 июля 1943 г. из Безымянлага освободили 9100 инва-лидов32.
Но даже, несмотря на постоянную разгрузку Безымянлага от инвалидов, численность заключенных этой группы увеличивалась . Если к сентябрю 1942 г. в категорию инвалидов попали 1,5 тыс. человек, то в октябре – уже 3 тыс. В октябре 1943 г. их количество сократилось до 295, к 1 июля 1944 г. вообще до трех, однако в августе вновь возросло до 2500 человек. Количество заключенных, полностью непригодных для выполнения работ и признанных инвалидами возрастало после каждой проведенной медработниками проверки больных группы «В». Так, в августе 1942 г. после очередного пересмотра всех заключенных, не работающих по болезни, было выявлено 2,5 тыс. инвалидов. В контексте таких цифр приведем слова заместителя начальника Особст-роя по Безымянлагу А.А.Буцневия, который в своем выступлении на партсобрании еще 11 января 1941 г., характеризуя ситуацию с условиями труда и быта заключенных, высказал опасения, что лагерь превращается в фабрику инвалидов33. Как видим, высказывание ответственного лагерного работника оставалось актуальным и по прошествии нескольких лет.
Еще одним аргументом, дающим основание для критического подхода к статистическим материалам Безымянлага, на наш взгляд, является стабильно высокий процент заключенных так называемого «легкого труда». Неопределенность критериев указанной категории подневольных работников давала возможность лагерной администрации трактовать ее довольно широко, но, в любом случае, в эту группу попадали заключенные с ослабленным организмом, не требующие медицинской помощи и усиленного питания . Вместе с тем, такие заключенные по медицинским показаниям не могли быть использованы на карьерных разработках, лесоповале, погрузочных работах и т.д. Отметим также , что пребывание узников в той или иной группе («тяжелый труд», «средний труд» «легкий труд»), естественно , не было устойчивым. К сожалению , архивные материалы не позволяют отследить процесс передвижения заключенных из одной катего- рии в другую . При анализе приходится опираться, в основном , на процентную динамику, говоря гулаговским языком, трудопригодности лагерного контингента (таблицы 3, 4). Опираясь на данные таблиц, отметим два момента. Первый – в 1943 – 1945 гг. в Безымянлаге количество заключенных «легкого труда» превышало в целом численность самой востребованной в Особстрое категории – работников «тяжелого труда». Второй – более трети лагерного населения медкомиссии относили к неполноценной рабочей силе, что влекло за собой вынужденное снижение для ослабленных узников норм выработки, а значит, и дополнительные расходы.
Таблица3. Физическое состояние заключенных Безымянлага по категориям труда за 1943 – 1944 гг.
|
Категории труда |
На 1.07.1943 |
На 1.01.1944 |
На 1.07.1944 |
На 1.11.1944 |
||||
|
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
|
|
1-я «тяжелый» труд |
2153 |
25,5 |
2175 |
36,3 |
2277 |
31,8 |
2409 |
32,9 |
|
2-я «средний труд» |
2603 |
30,8 |
2025 |
33,8 |
1911 |
26,7 |
1993 |
27,2 |
|
3-я «легкий труд» |
3236 |
38,3 |
1670 |
27,9 |
2967 |
41,5 |
2919 |
39,9 |
|
4-я «инвалиды» |
462 |
5,4 |
120 |
2 |
3 |
3 |
- |
|
Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф. 2064, оп .2. д. 203. л. 78.
Таблица 4. Физическое состояние заключенных Безымянлага по категориям труда за 1945 г.
|
Категории труда |
На 1 апреля 1945 |
На 1 июня 1945 |
На 1 октября 1945 |
На 1 декабря 1945 |
||||
|
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
|
|
1-я «тяжелый» труд |
2477 |
37,8 |
3053 |
25,5 |
1692 |
24,6 |
1835 |
29,9 |
|
2-я «средний труд» |
2961 |
45,2 |
4229 |
35,3 |
2284 |
33,1 |
2271 |
37,1 |
|
3-я «легкий труд |
1108 |
17 |
4689 |
39,2 |
2894 |
42 |
2015 |
32,8 |
|
4-я «инвалиды» |
2 |
2 |
22 |
0,3 |
16 |
0,2 |
||
Таблица составлена по материалам: ГАСО, оп. 2, д. 203, л. 40, 49,59, 63 об.
Возникает вопрос : за счет каких людских ресурсов крупнейшая строительная организация Куйбышевской области выполняла возложенные на нее задачи по завершению социально-бытовых объектов авиакомплекса и транспортной инфраструктуры на Безымянке, строительство нефтеперерабатывающего завода №443 на Кряжу, возведение и благоустройство объектов нефтедобычи на Самарской Луке и т.д.? Ответ достаточно прост. Помимо заключенных Безымянлага Особ-строй располагал собственным вольнонаемным кадровым составом строителей, числившихся в штате НКВД, насчитывавшим в 1942 г. более 6,5 тыс. человек34. Их ряды пополняли и освобожденные узники, которых, учитывая их опыт и специализацию, оставляли на строительстве в качестве трудмобилизованных. Условия жизни и труда вольнонаемных работников отличались в лучшую сторону от условий жизни их коллег, находившихся за колючей проволокой, соответственно, и по физическому состоянию они превосходили заключенных, не говоря уже о квалификации. Помимо этого с 1944 г. А.П.Лепилов получил в свое распоряжение так называемый спецконтингент – стройотряд мобилизованных татар из Крыма, прекрасно впоследствии зарекомендовавших себя на строительстве. И, наконец , также с 1944 г. на объектах Особстроя работали военнопленные, которых на правах контрагента предоставляло ГУПВИ НКВД СССР (Главное управление военнопленных и интернированных).
Таким образом, вопрос сохранения лагерного контингента в работоспособном состоянии не терял своей остроты на протяжении всего периода существования Особстроя и лагерного комплекса при нем. Хронические проблемы медицинского обеспечения, продовольственного снабжения и питания заключенных, жилья и т.д. усугубились войной. Безусловно, невзгоды и лишения, которые она принесла, отразились и на обитателях Безы-мянлага, о чем свидетельствует рост количества истощенных заключенных, а также летальных исходов . Последующее снижение смертности и числа нетрудоспособных узников не стоит определять как устойчивую тенденцию. Как мы убедились, условий для этого (улуч- шение питания, условий проживания и т.д.) не существовало, а механизмы оздоровления нетрудоспособного населения в лагерях не действовали , поскольку пороки, присущие лагерной системе ГУЛАГа с ее воровством, взяточничеством, штурмовщиной, оказывались сильнее . На воспроизводство такой системы работал лагерный социум. Ведь надо иметь в виду, что в лагере помимо людей, отбывших свой срок за политические убеждения, неосторожные критические высказывания в отношении власти, осужденных по так называемым бытовым статьям, по указам, трактовавшим обычные проступки как преступление (опоздание на работу, прогул, самовольное оставление производства и т.д.), находились и уголовники-рецидивисты, осужденные за воровство, грабеж, бандитизм, убийство . Именно они, прекрасно чувствуя себя в лагерной среде, паразитировали на труде тех заключенных, которые соблюдали дисциплину и добросовестно работали. Поэтому следует все-таки осторожно подходить к общей характеристике жителей Безымянлага. Так или иначе , но от руководства Особстроя требовали выполнения плана при любом составе заключенных, а выбор у А.П.Лепилова был невелик. Острая потребность в бригадирах, десятниках, нормировщиках, хозяйственных работниках и даже охранниках вынуждала привлекать на вакантные места заключенных, внедрявших собственную «трудовую этику», что и способствовало росту коррупции в лагерях. Критически оценивая условия жизни и труда в Безымянлаге, следует опять же делать скидку на специфику его контингента. Постоянно сталкиваясь с проблемой сохранения заключенных в работоспособном состоянии, многие работники лагеря буквально терялись от поведения таких заключенных, которые, будучи неоднократно водворены в изолятор, штрафной участок или зо- ну усиленного режима, посаженные на «штрафной котел» и вследствие этого истощенные, тем не менее, систематически отказывались работать. Врачи Безымянлага также недоумевали по поводу того , почему больные или ослабленные узники продавали или обменивали на другие вещи свой больничный паек, при этом мучаясь от голода и желудочных за-болеваний35. Ответы, по всей видимости, кроются в том уголовном образе жизни, который исповедовала не самая дисциплинированная и трудолюбивая часть обитателей Безымянлага.
Осознавал ли в полной мере проблемы своей «армии» заключенных генерал А.П.Лепилов и его заместители по лагерю, которых за всю историю Безымянлага сменилось шестеро (А.А.Буцневий, И.Ф.Заикин, С.Г.Фин-кельштейн, И.Б.Бень, А.Н.Фадеев, С.Г.Файн-штейн)? Безусловно . Об этом свидетельствуют, с одной стороны, протоколы партсобраний и партконференций Особстроя, письма в ГУЛАГ с просьбой увеличить продовольственное снабжение для лагеря, ходатайство Лепилова перед Л.П.Берией о досрочном освобождении заключенных-передовиков и т.д., а с другой стороны – жестокая борьба с коррупцией, воровством в лагере и саботажем на производстве силами сотрудников оперативно-чекистского отдела и прокуратуры. Однако указанные пороки лагерной системы проявлялись вновь из года в год. Уничтожить их оказалось невозможным, поскольку для этого потребовалось бы полностью изменить среду обитания, на которой они произрастали, т.е. сам ГУЛАГ.
PROBLEMS OF SOCIAL MAINTENANCE AND LABOR USE OF BEZIMYANLAG PRISONERS, 1940 – 1946
Volga Branch of Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Samara
The problems of life and working conditions of Gulag prisoners in one of the largest prison camps in the Volga region are analyzed in the paper.
Список литературы Проблемы социально-бытового обеспечения и трудового использования узников безымянлага
- ГАСО Ф. -Р. 2064, оп. 2, д. 198, л. 20, д. 203, л. 77.
- Захарченко А.В., Репинецкий А.И. Использование труда заключенных и индустриализация Куйбышевской области накануне и в годы Великой Отечественной войны/Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Том 8, №3 (17), 2006. Июль-Сентябрь. С.789-801.
- ГАСО Ф.-Р. 2064, оп. 2., д. 11, л. 3, 20.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 1, д. 211, л. 1393, 1394, оп. 2, д.5, л. 228, 229.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 47, л. 54-59
- СО ГАСПИ, ф. 656, оп. 20, д. 6, л. 61.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 98, л. 19, 57, 65, 70, 84, д. 83. л. 134, д. 203, л. 30.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 98, л.76.
- ГАРФ Ф.-Р 9414, оп. 1, д. 325, л.105.
- СО ГАСПИ, ф.1817, оп. 1, д. 67, л. 15.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 47, л. 5.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 47, л. 12.
- ГАСО Ф.-Р. 2064, оп.1.д.207, л. 855, д. 228. л. 9.
- СО ГАСПИ. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 59. Л. 61.
- ГАСО Ф.-Р 2064. оп. 2, д. 84. л. 9.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 203, л. 78, д. 47, л. 80.
- СО ГАСПИ. Ф. 1817, оп. 1, д. 67, л. 20.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 47, л. 23.
- ГАСО Ф. -Р. 2064, оп. 2, д. 47, л. 72-74.
- Великая Отечественная война. 1941 -1945. Военно-исторические очерки. Книга первая. Суровые испытания. -М.: 1998. -С. 418.
- ГАСО, ф. 2064, оп. 1. д. 228, л. 8 -19.
- ГАСО, ф. 2064, оп. 2, д. 84, л. 1, д. 47, л. 55.
- ГАСО Ф. -Р. 2064, оп. 2, д.11, л. 24, д. 47, л. 41, 55, 94, 105, д. 83, л. 135, д. 98, л. 10, 71, и др.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 84, л.1,2.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 52, л. 11
- Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. -М.: 1997. -С. 110.
- ГАРФ. Ф.-Р. 9414, оп. 1, д. 1181, л. 21.
- ГАСО. Ф.-Р 2064, оп. 2. д. 203, л. 78, 81.
- ГАСО Ф.-Р 2064, оп 2, д. 57, л. 9.
- ГАРФ Ф.-Р 9414, оп. 1, д. 61, л. 41, 42.
- ГАРФ.Ф.-Р 9414, оп. 1, д. 61, л. 68 б.
- ГАСО.Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 98, л. 10.
- ГАСО. Ф.-Р. 2064, оп.2. д. 203. л. 78.
- СО ГАСПИ. Ф.1817, оп.1, д. 59, л.31.
- СО ГАСПИ. Ф. 1817, оп. 1., д. 120, л. 3.
- ГАСО, Ф.-Р 2064, оп. 2, д. 47, л. 22, 24.