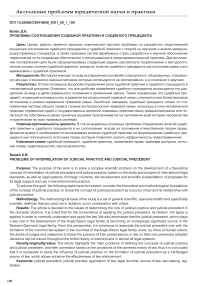Проблемы соотношения судебной практики и судебного прецедента
Автор: Булах Денис Борисович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 1 (50), 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель: Целью работы является решение комплексной научной проблемы по разработке теоретической концепции соотношения судебного прецедента и судебной практики с опорой на изучение и анализ международно-правовых стандартов, а также правовых систем зарубежных стран, разработка и научное обоснование предложений по их правовому обеспечению и использованию в правоприменительной практике. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: рассмотреть теоретические и методологические основы понятия судебной практики; раскрыть понятие судебного прецедента как источника права и его взаимосвязь с судебной практикой. Методология: Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных, специально-научных и конкретно-научных методов, которые используются не изолированно, а в сочетании с другими. Результаты: Статья посвящена вопросам определения роли судебной практики и судебного прецедента в отечественной доктрине. Отмечено, что для удобства применения судебного прецедента используется его разделение на виды в целях правильного понимания и применения закона. Также подчеркнем, что судебный прецедент, играющий ключевую роль в развитии англосаксонской правовой семьи, становится все более весомым источником в романо-германской правовой семье. Ошибочно связывать судебный прецедент только со становлением системы общего права в странах англосаксонской правовой семьи, поскольку в силу человеческой природы стремление судей и государственных деятелей следовать практике своих предшественников или полагаться на собственные ранее принятые решения прослеживается на протяжении всей истории человечества и практически во всех правовых системах. Новизна/оригинальность/ценность: В статье выделены основные проблемы определения понятий судебной практики и судебного прецедента и их соотношения, исходя из положений отечественной теории права. Делается вывод о необходимости исследования влияния судебной практики на формирование судебного прецедента как полноценного источника права, который позволяет усилить эффективность правоприменения.
Судебный прецедент, судебная практика, применение права, правовая доктрина, источник права, правотворчество, законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/140257893
IDR: 140257893 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_50_1_100
Текст научной статьи Проблемы соотношения судебной практики и судебного прецедента
Судебная практика выступает основой общего правового пространства соответствующего государства или нескольких государств, признающих юрисдикцию определенного международного суда. В связи с этим важным является учет специфики судебной практики не только как фактора правореализации, но и правотворческой деятельности судей.
По нашему мнению, необходимо использовать судебные решения в качестве источника права – судебного прецедента – для устранения пробелов действующего законодательства и создания динамической системы права. Совершенных законов не существует, ведь предусмотреть все возможные конфликтные ситуации в процессе реализации тех или иных норм права просто невозможно.
В этом случае именно судебная практика раскрывает, углубляет и конкретизирует содержание нормы, применяемой в конкретных правоотношениях. Необходимость содержательного исследования этого явления объясняется наличием разногласий по широкому кругу вопросов в трудах ученых, касающихся судебной практики и ее взаимосвязи с судебным прецедентом, особенно перспективы введения судебной практики как источника права в Российской Федерации.
В странах континентальной Европы для отображения прецедентного характера актов судебной власти употребляется в основном термин «устоявшаяся судебная практика», а не «судебный прецедент». Эти понятия отражают один и тот же феномен признания прецедентного характера актов судебной власти, но в разных исторических и социальных условиях.
Российская правовая система в целом следует мировым тенденциям, когда дискуссия относительно общей обязательности судебных решений развивается на основе понятия судебной практики, а не судебного прецедента, указывая на необходимость наличия определенной линии дел или разъяснений (эквивалент европейской концепции «устоявшейся судебной практики») по определенным правовым вопросам [4, c. 124–125].
Исходя из анализа доктрины права, можно выделить три основных подхода относительно судебной практики, сложившихся в отечественном праве. Это:
-
1) правило, которое создано судом при принятии им решений по частным случаям, при этом оно отождествлялось с правовым обычаем;
-
2) общее, длинное и единообразное применение определенной нормы права судами определенного уровня или юрисдикции;
-
3) особая форма общего права.
Развитие судебной практики тесно связано с деятельностью судебных органов. Судебная практика всегда выступала своеобразным ориентиром для одинакового рассмотрения судебных дел, правильного применения нормативно-правовых актов, толкования и преодоления пробелов в законодательстве.
Значение судебной практики в основном зависит от политической воли государства и его правовой политики. Она имеет творческий характер. Активная творческая самостоятельность судебной практики начинается с отделения судебной власти от законодательной и исполнительной.
В настоящее время начался новый этап развития как судебной практики, так и судебного прецедента в правовой системе Российской Федерации. Начало этому было положено в концепции судебно-правовой реформы и в Конституции, которая на самом высоком нормативном уровне закрепила разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную [1, c. 208–212].
Таким образом происходили эволюция национальной правовой системы и развитие судебного правотворчества. В своей деятельности судебная власть должна не только применять закон, но и создавать общие нормы, когда законодатель молчит. Судебное правотворчество находит свое отражение в судебных прецедентах Конституционного Суда Российской Федерации и в судебной практике Верховного Суда.
Вместе с тем, несмотря на широкое использование в юридической терминологии понятий «судебный прецедент» и «судебная практика», в литературе до сих пор отсутствует единый подход к пониманию указанных понятий. Кроме того, ученые до сих пор не пришли к единому выводу о том, каким образом указанные термины соотносятся между собой. И если ранее нами было выяснено, что по своей юридической природе является судебным прецедентом, то дальше, по нашему мнению, следует особое внимание уделить понятию судебной практики, а затем определить соотношение последней с судебным прецедентом.
Термин «судебная практика» понимается как материализованный результат рассмотрения судебного дела, оформленный как правовые положения, на основании которых решен спорный вопрос и которые убедительно свидетельствуют о единственно правильно избранном судом подходе и являются ориентиром для решения аналогичных спорных ситуаций [6, c. 28–42].
Определение судебной практики в узком смысле дается в качестве правовых положений, сложившихся при решении судами однородных конкретных дел, которые произведены в результате однообразного и многократного применения норм к отношениям, не урегулированы с исчерпывающей ясностью или полностью не урегулированы соответствующим законом.
В отличие от прецедента, создаваемого отдельным принятым судебным решением, которое вправе принимать только высшие судебные инстанции, судебная практика – это обобщенный результат рассмотрения конкретных дел. Иногда под термином «судебная практика» понимают разъяснения по применению законодательства, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда, которые даются в порядке судебного толкования и являются обязательными при разрешении споров по делам соответствующей категории. В то же время термин «судебная практика» используется для обозначения многократного, унифицированного решения судами одной и той же категории дел [2, c. 128–129].
Встречается и узкое понимание судебной практики как совокупности принципиальных решений высших судебных инстанций по вопросам применения правовых норм.
Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в российской доктрине давно назрела необходимость внедрения и нормативного закрепления понятия судебного прецедента, в связи с чем на законодательном уровне следует установить следующее:
-
– судебный прецедент является дополнительным источником права, применяется в случаях пробелов в праве и отсутствия правовой нормы, с помощью которой можно решить спор [9, c. 1133–1135], и может быть установлен как одним решением, так и несколькими, которыми он уточняется по новым обстоятельствам по делу;
-
– решение может быть признано прецедентом, если оно принято судом низшей инстанции и прошло проверку в апелляционном и кассационном порядке;
-
– обязательность соблюдения определенного решения как судебного прецедента возникает для судьи по делу, которое он рассматривает, только при условии сходства дела с тем, которое решено ранее;
– судебная практика становится источником права только после устойчивого исполнения и уподобленного регулирования соответствующих сфер отношений [3, c. 53–56].
Обобщив вышеупомянутые подходы к выделению категории «судебная практика», сформулируем ее определение: судебная практика – это совокупность судебных решений, которая является результатом профессиональной деятельности судей высших судебных инстанций в сфере правоприменения и правотолкования определенной категории дел, которые в силу своей много-разовости и однообразия применения выступают правовым образцом для последующих судебных решений по аналогичным делам [7, c. 14–18].
Для определения общих черт, которые выделяют судебную практику из других источников права, следует проследить ее значение для различных правовых систем. Согласно классической европейской традиции особую роль играет оригинальный текст или иной оригинальный источник. Именно традиция толкования, большое уважение к оригинальному тексту или письменному источнику определили роль прецедента как источника права в странах романо-германского права.
В этих странах обычно нет законодательных оснований для признания обязательности судебного прецедента. Главная особенность правовых систем, входящих в романо-германскую правовую семью, заключается в том, что закон признается основным среди других источников права.
Что касается отношений судебной практики как источника права в странах англо-американской правовой семьи, то там вместо судебной практики источником права признается судебный прецедент, который имеет первичное, обязательное значение. На этом основании между судебной практикой и судебным прецедентом не следует ставить знак равенства, поскольку они являются отдельными составными частями судебного правотворчества. Поэтому указанная проблема терминологического разногласия требует использования логических правил дифференцирования.
В частности, прецедентное право традиционно определяется как право, состоящее из норм и принципов, созданных и применяемых английскими судьями в процессе вынесения ими судебных решений. Несмотря на различия между судебной практикой и прецедентом, однообразие рассмотрения одинаковых дел лежит в основе обоих этих источников [10, c. 540–544].
Проведенный анализ позволяет выделить следующие черты, объединяющие судебный прецедент и судебную практику:
-
1) имеют неписанный характер и как источники права принимаются судебными органами, а не законодательным органом, что не характерно для романо-германской правовой семьи;
-
2) формируются посредством применения правовых норм;
-
3) обеспечиваются судебной, а не законодательной ветвью власти;
-
4) их развитие происходит посредством применения права с учетом определенных жизненных ситуаций и обстоятельств;
-
5) в отличие от нормативно-правовых актов у них отсутствует четкая структурированность.
В то же время судебная практика имеет существенные отличия от судебного прецедента:
-
1) она не признается обязательной для применения в аналогичных делах, если нет повторяемости. Другими словами, то или иное правило, произведенное судебной практикой, чтобы получить статус правоположения, должно выступить юридической основой решения целого ряда дел;
-
2) она характеризуется тем, что правовые нормы, которые создаются судом (даже выше), не имеют такой обязательности для нижестоящих судебных инстанций при рассмотрении аналогичных дел, как нормы, содержащиеся в законодательстве;
-
3) она отличается также по механизму создания: для судебной практики характерно накопление единичных судебных решений с последующим обобщением практики верховной судебной инстанцией по отношению к ним, а прецедентному праву присуща казуистичнисть.
Иначе говоря, судебная практика является сочетанием множества аналогичных решений для обеспечения их упорядоченности и автоматизации.
В романо-германском (континентальном) типе правовых систем, с которым идентифицируется современная правовая система Российской Федерации и где нормативно-правовые акты являются первичным источником права, постепенно увеличивается влияние судебной практики. Хотя до сих пор в правовых системах этого типа отсутствует как концепция прецедентного права, так и уподобленная практика применения прецедентных решений судами. Это объясняется принципом разделения властей, согласно которому основной функцией судебной ветви власти является правоприменение.
Ответ на вопрос, почему в российской правовой системе, где приоритетность актов законодателя закреплена на законодательном уровне, все же возникает потребность в судейском правотворчестве, дает концепция открытой структуры права [5, c. 250–254].
Согласно этой концепции правовые нормы являются неоднозначными, то есть состоят из ядра (правовых положений, которые в целом понятны) и «сумеречной зоны», содержание которой невозможно понять без расширенного судейского толкования. То есть в соответствующих сферах общественной жизни законодатель оставляет за судебными органами или должностными лицами, уполномоченными на решение дел, соответствующих их юрисдикции, право продолжить дело, начатое правотворцем.
Так, высшие суды в процессе официального толкования закона или в кассационной процедуре вправе дополнить, уточнить или изменить нечетко сформулированную или создать отсутствующую норму права. Самостоятельным источником права признаются и решения органов конституционного правосудия (конституционных судов), которые создаются в процессе осуществления ими нормативных функций: конкретизации и интерпретации конституционных норм, а также создания новых правовых норм.
Однако взгляды ученых на выделение правотворческой функции судебной практики Конституционного Суда РФ разнятся. Так, акты Конституционного Суда можно считать «квази-прецедентными» в контексте российской правовой системы. Есть и противоположная точка зрения, согласно которой деятельность по признанию правовых актов конституционными или неконституционными не должна признаваться отдельной формой деятельности органов государства, поскольку по своим признакам является разновидностью правоприменительной деятельности.
Особого внимания заслуживает вопрос «прецедентов толкования». Прецедент толкования признается самостоятельным источником права, который получает «самостоятельную» юридическую жизнь, отдельную от правовой нормы, хотя органическая связь между нормой и прецедентом толкования не исчезает [8, c. 38–44].
Этот прецедент всегда расширяет нормативное содержание, хотя возможно и установление определенных пределов этого расширения. Большинство теоретиков права определяют, что именно разъяснения Верховного Суда и высших специализированных судов являются обобщением судебной практики по применению определенных норм законодательства, которое, в свою очередь, имеет характеристики так называемого «квазипрецедентного» права.
На основании проведенного исследования можем отметить следующее. Соотношение понятий «судебная практика» и «судебный прецедент» можно выразить через связь общего и кон- кретного. Проанализировав понятие судебной практики, мы пришли к выводу, что судебная практика – это акты органов суда, принимаемые различными судебными инстанциями при рассмотрении конкретных дел, складывающиеся в процессе правоприменения и выражающиеся в форме постановлений высших судебных органов, имеющих разъяснительный характер.
В отличие от судебной практики, судебный прецедент создается отдельно принятым судебным решением, которое вправе принимать только высшие судебные инстанции.
Список литературы Проблемы соотношения судебной практики и судебного прецедента
- Агамиров К.В. Прогностические проблемы совершенствования правовой системы, законотворчества и социального механизма правореализации: монография / под науч. ред. Р.В. Шагиевой. М.: Юрлитинформ, 2016.
- Глухов А.С. Соотношение и перспективы развития судебного прецедента и судебной практики как источников российского права // Юридический вестник Самарского университета. 2016. № 2. С. 128-129.
- Желдыбина Т.А. Судебный прецедент: современный взгляд // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 3. С. 53-56.
- Кива-Хамзина Ю.Л. Судебный прецедент - самостоятельный источник права в России // Экономика и политика. 2014. № 1. С. 124-125.
- Мелконян А.А. К вопросу об истории английского судебного прецедента // Инновационная наука. 2016. № 5. С. 250-254.
- Поляков С.Б. Судебный прецедент в России: форма права или произвола? // Lex Russia. 2015. № 3. С. 28-42.
- Потапенко С.В. Судебные источники права // Актуальные проблемы сравнительного правоведения: сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. Симферополь: Крымский федеральный университет, 2017. C. 14-18.
- Стругова Е.В. Судебный прецедент: реалии современной российской действительности // Юридическая наука. 2016. № 2. С. 38-44.
- Coyle J.F. Rethinking Judgements Reciprocity, 92 N.C. L. Rev. 1109, 1174 (2014). P. 1133-1135.
- Kinsch P. Enforcement as a Fundamental Right, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2014. P. 540-544.