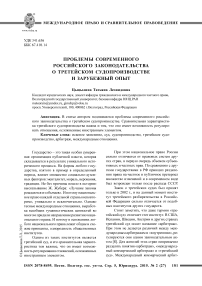Проблемы современного российского законодательства о третейском судопроизводстве и зарубежный опыт
Автор: Цыцылина Татьяна Леонидовна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Международное право и сравнительное правоведение
Статья в выпуске: 2 (27), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье автором поднимаются проблемы современного российского законодательства о третейском судопроизводстве. Сравнительная характеристика третейского судопроизводства важна и тем, что оно имеет возможность регулировать отношения, осложненные иностранным элементом.
Исковое заявление, суд, судопроизводство, третейское судопроизводство, арбитраж, международные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14973638
IDR: 14973638 | УДК: 341.636
Текст научной статьи Проблемы современного российского законодательства о третейском судопроизводстве и зарубежный опыт
Государство – это такая особая суверенная организация публичной власти, которая складывается в результате уникального исторического процесса. На формы любого государства, взятого в пример в определенный период, влияет множество социально-духовных факторов: менталитет, мораль, верования, традиции. Не без причины вошло в историю высказывание Ж. Жубера: «Лучшие законы рождаются из обычаев». И потому национальное право каждой отдельной страны неповторимо, уникально и исключительно. Однако тесные международные отношения, выработка всеобщих гуманистических ценностей во многом придали направление развитию национального права. И потому в основаниях любого национального права лежат общие и схожие принципы, однородность общественных институтов.
Одним из таких институтов является третейский суд, и его сравнительная характеристика тем важнее, что он имеет возможность регулирования отношений, осложненных иностранным элементом.
При этом национальное право России сильно отличается от правовых систем других стран, в первую очередь объемом субъективных и частных прав. По сравнению с другими государствами в РФ принцип разделения права на частное и публичное претерпел множество изменений и в современном виде был возрожден только после распада СССР.
Закон о третейских судах был принят только в 2002 г., и на данный момент институт третейского разбирательства в Российской Федерации сильно отличается от подобных институтов других государств.
Стоит заметить, что даже термин «третейский суд» отличает этот институт. В США, Испании, Швеции, Австрии и других странах третейский суд носит название «арбитраж». При этом не делается различий между международным арбитражем и «внутренним», регулируются они одним законодательным актом [8]. Для жителей этих стран непривычно разделять понятия «арбитраж», «международный коммерческий арбитраж» и «третейский суд». Международный коммерческий арбит- раж является неотъемлемой частью концепции lex mercatoria и отражает ее принципиальные основы – мягкость, наднациональность, относительную обособленность от исключительно государственного регулирования [6].
В российском процессе арбитражное судопроизводство – это рассмотрение дел системой государственных арбитражных судов, в Великобритании арбитраж – это упрощенное судопроизводство. Такую терминологическую путаницу следует учитывать при заключении третейского соглашения с иностранным субъектом.
Однако во всех случаях речь может идти о рассмотрении гражданско-правовых споров.
Общие черты третейского судопроизводства, такие как «принцип компетенции-компетенции», независимости третейской оговорки, принципы третейского разбирательства, сформулированы в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже» (1985). Всеми странами признана полезность арбитража как метода урегулирования споров, возникающих в международных торговых отношениях. Потому закон об арбитраже должен быть приемлем для государств с различными правовыми, социальными и экономическими системами, такой закон, а главное – единообразие в подходах к регулированию международных торговых отношений, способствуют их гармоничному развитию. Именно с целью привести к единообразию закон о процедурах арбитража и конкретные потребности практики международного торгового арбитража был разработан Типовой закон [7]. Его нормы, или скорее принципы и рекомендации, восприняты большинством стран не только для регулирования международных экономических отношений, но и для «внутреннего» арбитража.
Как уже говорилось, в странах Европы, таких как Швеция, Испания, Австрия и др., не делается различий между «внутренним» и международным арбитражами. В Российской Федерации действуют, о чем не раз уже говорилось, два закона, регулирующих сходные институты: Закон о третейских судах и Закон об арбитраже. При этом некоторые нормы указанных законов имеют отличное содержание, одинаковые термины воспринимаются в них в различных значениях. Так же между ними существует определенная конкуренция компетенции: отсутствуют признаки, которые бы позволили четко разграничить «внутренний» третейский суд и международный коммерческий арбитраж. Такое разграничение можно сделать по «остаточному принципу»: все, что не является международным коммерческим арбитражем, есть «внутренний» третейский суд.
В российском законодательстве подход к компетенции международных и «внутренних» третейских судов свидетельствует о некоторой условности деления этих третейских учреждений по принципу наименования [9]. Нет никаких препятствий к тому, чтобы спор между субъектами различной национальной принадлежности рассматривался «внутренним» третейским судом по правилам международного арбитрирования. Естественно, это возможно только в тех случаях, когда положения и регламенты такого постоянно действующего третейского суда содержат нормы, допускающие рассмотрение этой категории споров третейским судом.
Стоит обратить отдельное внимание на практику Швеции. В этой стране институт арбитража известен еще с XI в. и развивался непрерывно. Потому Швеция имеет самый богатый опыт арбитражного разбирательства и выработала самые эффективные подходы к этому институту [4], а также этим определяется особое уважительное отношение законодательства Швеции к арбитражному судопроизводству. Если стороны передали разрешение спора в арбитраж, это разбирательство считается не просто альтернативным способом разрешения спора, а своего рода первостепенным непреложным волеизъявлением сторон. Даже рассмотрение компетентным государственным судом дела о признании недействительным или об отмене арбитражного решения может быть на определенный срок приостановлено по просьбе одной из сторон с тем, чтобы предоставить арбитрам возможность возобновить арбитражное разбирательство или предпринять иное действие, которое, по мнению арбитров, устранит основание для недействительности или отмены решения. В данном случае компетентный государственный суд также прилагает некие усилия, чтобы сохранить возможность сторон разрешить
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО спор в третейском суде, сделать решение третейского суда юридически исполнимым. Этот подход к институту арбитража, основанный на уважении и доверии к арбитрам, характерен только для шведского законодательства. К сожалению, в России государственные суды скептически относятся к деятельности третейских судов. Такой вывод можно сделать исходя из анализа судебной практики по делам об оспаривании решений третейских судов, когда большинство постановлений государственного суда выносится не в пользу этих решений. С другой стороны, существует негативная практика создания в России «карманных» третейских судов, включение третейской оговорки в договор без согласия на то стороны договора и пр., попытки предпринимателей использовать третейский суд для своей выгоды. В этой ситуации государственный контроль остается единственной защитой от недобросовестных участников гражданского оборота.
Все же вмешательство в третейское разбирательство со стороны государства должно быть ограничено, иначе фактически третейский суд ничем не будет отличаться от государственных судов. Так, к примеру, в Испании государственному контролю за деятельностью арбитражей уделяется отдельное внимание. С одной стороны, в Испании провозглашены принципы минимального вмешательства судебных органов в арбитраж и правовой защиты арбитражных решений (закон устанавливает исчерпывающий перечень причин, по которым арбитражное решение может быть признано недействительным или может быть отказано в его признании), однако полномочия государственных судов в арбитражном производстве Испании значительно шире, чем в других странах, и проявляются в судебном назначении арбитров, судебном содействии в собирании доказательств, обеспечении искового требования, принудительном исполнении арбитражного решения, принятии решения о недействительности арбитражного решения, признании и исполнении иностранных арбитражных решений [2]. Арбитражным законом от 2011 г. [11] предусмотрена обязанность арбитражных учреждений следить за правоспособностью арбитров и их независимостью во время арбитражного процесса.
Более того, арбитражные учреждения и арбитры должны иметь страховой полис в отношении профессиональной ответственности.
Что характерно для российского законодательства и законодательства других стран, для третейских судей или арбитров законодательно не выдвигаются определенные требования к профессии, образованию, квалификации. Здесь прослеживается степень доверия государства третейским судьям. Статья 7 шведского Закона об арбитраже [5] гласит: «арбитром может быть любое лицо, обладающее полной дееспособностью в отношении своих действий и имущества». Единственный критерий, предъявляемый к шведскому арбитру, – беспристрастность. Статья 8 шведского Закона об арбитраже устанавливает те случаи, когда беспристрастность арбитра ставится под сомнения и это обстоятельство может служить поводом для отвода арбитра, но только по заявлению одной из сторон.
Более строго обстоят дела в законодательстве России и Испании – арбитр или третейский судья (если спор рассматривается коллегиально, то хотя бы один из них) должен обладать юридическим образованием. При этом в Законе о третейских судах [10] говорится об обязательном высшем образовании, а в испанском Арбитражном законе 2011 г. такого указания нет [11]. Под юристами понимаются не только практикующие юристы, как в прежней редакции 2003 г., но и ученые в области права.
В Законе о третейских судах предусмотрен порядок отвода третейского судьи, а регламентами предусмотрена его замена, однако не учитывается тот факт, что судья может отказаться от разрешения дела без обоснованных причин. В Швеции приняты меры против такого поведения. Во-первых, процесс не может вестись единоличным арбитром, только составом суда. Это двойная мера, направленная как на сохранение интересов сторон, так как каждая сторона выбирает по арбитру, так и на более эффективное и быстрое ведение процесса, из которого исключены всевозможные «неожиданности» (ст. 13 ст. 2, п. 3 ст. 4 Закона об арбитраже (SFS 1999:116) [5]. Так, если арбитр откажется без уважительной причины рассматривать переданный спор, это не будет являться препятствием для при- нятия решения составу арбитража (ст. 30 Закона об арбитраже (SFS 1999:116)).
В последние годы в российской юридической литературе весьма активно используется термин «арбитрабельность», при помощи которого очерчивается круг дел, подведомственных третейским судам, а также определяются условия таковой подведомственности [9]. Критерии арбитрабельности отражены в п. 2 ст. 1 Закона о третейских судах, согласно которому в третейский суд может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений. В то же время мировой опыт регулирования третейского разбирательства свидетельствует о том, что возможны иные, нежели в российском правоведении, подходы к определению арбитрабельности споров. Так, в соответствии с параграфом 577 Гражданского процессуального кодекса Австрии [12] предметом арбитражного разбирательства могут быть любые споры, по которым стороны способны заключать мировое соглашение [3]. Это же правило закреплено шведским Законом об арбитраже. Это означает, что в арбитраж этих стран может быть передан спор, вытекающий из семейных или трудовых правоотношений, что исключается российским законодательством. Вместе с тем отнесение, к примеру, спора о разделе имущества между супругами при отсутствии спора о детях существенно разгрузило бы судебную систему. Подход, сформулированный в австрийском законодательстве, подчеркивает развитость гражданского общества этой страны.
Вместе с тем третейское разбирательство за рубежом терпит те же неудобства, вызванные его правовым положением, что и российский институт: невозможность применить принудительные меры или оказать влияние на третьих лиц. В связи с этим в зарубежных странах пытаются избежать таких ситуаций, которые нарушали бы целостность и однозначность третейского процесса. К примеру, законодательство США не допускает рассмотрение арбитражем (третейским судом) исков владельцев корпоративных ценных бумаг [7]. Шведский Закон об акционерном обществе ограничивает возможность рассмотрения споров третейским судом лишь спорами в отношении незначительного количества акций.
При этом в зарубежных странах остро стоит вопрос о юрисдикции арбитражных судов. Так в Швеции рассмотрение дела может одновременно происходить в арбитражном и районном судах (ст. 2, п. 3 ст. 4 Закона об арбитраже (SFS 1999:116).
В Законе о третейских судах устанавливаются правила определения места третейского разбирательства. Место третейского разбирательства может быть определено по-разному, но в решении третейского суда обязательно должно содержаться указание о нем. В решении арбитра Швеции может вообще не указываться место арбитража. Обжалование при этом будет осуществляться в апелляционный либо районный суд в зависимости от предмета обжалования: обжалуется ли само решение или же обжалуется вознаграждение арбитрам.
В Испании, согласно Закону 2011 г., если было открыто судопроизводство, несмотря на наличие соглашения о передаче спора в арбитраж, ответчик может обратиться к суду с просьбой о передаче дела в арбитраж до подачи возражений по иску в ходе судебного разбирательства в установленный срок.
Данное положение предлагает ограничить полномочия судей рассматривать, подлежит ли спор передаче в арбитраж, только теми случаями, если арбитражное соглашение является явно недействительным или невыполнимым. Такое предложение действует в пользу арбитража за счет сокращения возможностей сторон участвовать в затягивании и препятствовании разбирательства.
Тем не менее закон также позволяет ответчику отложить свою просьбу о передаче дела в арбитраж до тех пор, пока он не заявит свои возражения по иску в ходе судебного разбирательства. Данное положение кажется неоправданным, поскольку вновь возникнет риск того, что вопрос о подчинении юрисдикции может быть ошибочно включен в заявление защиты.
Таким образом, арбитражный процесс в России и арбитражный процесс за рубежом – это два принципиально разных понятия, последнее из которых в российском законодательстве имеет отдельную нишу и зовется третейским разбирательством. Арбитражный процесс в Европе и третейское разбирательство в РФ основаны на принципах, выработан- ных Комиссией ООН по праву международной торговли.
В большинстве стран не существует отличий в регулировании «внутреннего» и международного арбитража, как в российском праве. В Швеции оба явления регулируются одним Законом об арбитраже, в Польше третейский суд имеет право не определять свой статус как «внутреннего» или международного арбитража и действовать на основе двух регламентов, принимая на рассмотрение споры как между субъектами национального права, так и осложненные иностранным элементом, вытекающие из международной торговли.
Основанный на частноправовой природе правоотношений, осуществляющий свою деятельность на принципах свободы, добровольности, доверия, третейский суд, как в России, так и за рубежом, непременно сталкивается с проблемами недостатка полномочий при разрешении дела.
В любом случае третейский суд – порождение гражданского общества, и законодательная регламентация его деятельности, наделение его правами и свободами, уровень доверия к нему со стороны общества свидетельствуют о достижении гражданами этого государства высокого уровня правосознатель-ности, отражают общественную мораль.
Список литературы Проблемы современного российского законодательства о третейском судопроизводстве и зарубежный опыт
- Арбитражный процесс/под ред. В. В. Яркова. -М.: Юристъ, 1998. -480 с.
- Бондаренко, А. С. Международный коммерческий арбитраж в Испании/А. С. Бондаренко//Арбитражный и гражданский процесс. -2010. -№ 4. -С. 35-37.
- Вельяминов, Г. М. Международное экономическое право и процесс/Г. М. Вельяминов. -М.: Волтерс Клувер, 2004. -496 с.
- Дубровина, М. А. Критерии определения международного характера арбитража (на примере законодательства Швейцарии)/М. А. Дубровина//Арбитражный и гражданский процесс. -2001. -№ 2. -С. 45-48.
- Закон Швеции «Об арбитраже» SFS 1999:116. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://arbitrationsweden.com/news/zakonshvetsii-ob-arbitrazhe-sfs-1999-116. -Загл. с экрана.
- Иншакова, А. О. Арбитражное соглашение как договорный способ закрепления принципа гибкости в международном частном праве/А. О. Иншакова, С. Ю. Казаченок//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. -2013. -№ 1 (18). -С. 66-71.
- Мозолин, В. П. Договорное право в США и в СССР. История и общие концепции/В. П. Мозолин, Е. А. Фарнворт. -М.: Наука, 1988. -309 с.
- Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей к Типовому закону ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html. -Загл. с экрана.
- Скворцов, О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, тенденции, перспективы/О. Ю. Скворцов. -М.: Волтерс Клувер, 2005. -704 с.
- Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ//Российская газета. -2002. -27 июля (№ 137).
- Amendments to Spanish Arbitration Act now passed. -Electronic text data. -Mode of access: Adrresources.com/adr-news/803/2011-arbitration-actof-spain; http://arbitration.practicallaw.com/8-506-3371. -Title from screen.
- Austria Code of Civil Procedure (as modified by Federal Law of February 2, 1983). Fourth Chapter. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.kluwerarbitration.com. -Title from screen.