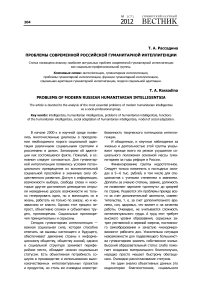Проблемы современной российской гуманитарной интеллигенции
Автор: Рассадина Татьяна Анатольевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу наиболее актуальных проблем современной гуманитарной интеллигенции как социально-профессиональной группы.
Интеллигенция, гуманитарная интеллигенция, проблемы гуманитарной интеллигенции, функции гуманитарной интеллигенции, социальная адаптация гуманитарной интеллигенции, модели социальной адаптации
Короткий адрес: https://sciup.org/14113611
IDR: 14113611
Текст научной статьи Проблемы современной российской гуманитарной интеллигенции
В начале 2000-х в научной среде появились многочисленные диагнозы о преодолении необходимого порога социальной адаптации различными социальными группами и россиянами в целом. Заговорили об адаптации как состоявшемся факте. Пожалуй, в основном следует согласиться. Для гуманитарной интеллигенции появились условия потенциального превращения из вспомогательной социальной прослойки в значимую силу общественного развития. Доступ к информации, возможности выбора, свобода слова и некоторые другие достижения демократии открыли невиданные доселе возможности не только генерировать идеи, но и воплощать их в жизнь, работать не только по заказу, но и независимо от власти. Однако этот процесс непрост, объективно сложен и субъективно труден, противоречив. Социальные противоречия принципиальны и серьезны.
Сегодня гуманитарная интеллигенция — важная социальная сила, которая способна отвечать на вызовы настоящего и будущего, обеспечивает движение страны к информационному обществу, обществу знаний, однако в социальной структуре занимает периферийное место, обладает низким социальным статусом. Есть объективная потребность социума в производстве и использовании высококачественных интеллектуальных проектов и продуктов, но столь же очевидна невостре- бованность творческого потенциала интеллигенции.
И обыденные, и научные наблюдения за жизнью и деятельностью этой группы указывают прежде всего на резкое ухудшение социального положения основной массы гуманитариев за годы реформ в России.
Финансирование группы недостаточное. Следует только напомнить о постыдных окладах в 5—6 тыс. рублей, в том числе для специалистов с учеными степенями и званиями. Доплаты за ученую степень, звание, должность не позволяют зарплате «дотянуть» до средней по стране. Решаются эти проблемы прежде всего за счет дополнительной занятости, совместительства, т. е. за счет дополнительного времени, сил, здоровья, что влияет и на качество работы . Очевидно, не учитывается сложность интеллектуального труда . А труд этот требует высокого уровня образования, серьезных затрат умственной и нервной энергии, постоянного самообразования и зачастую «ненормированного» рабочего дня . Унизительна ситуация невозможности для подавляющего большинства гуманитариев заиметь собственное жилье. Высокий образовательный статус слабо помогает созданию материального благополучия, нередко просто мешает быстрому обогащению. Очевидно рассогласование статусов.
Ни один анализ объективных данных (по индикаторам благосостояния, социального статуса, престижа профессий и т. д.), впрочем, как и субъективных (социальное настроение, ожидания от будущего и т. п.), не дает повода для оптимизма. В итоге падают как престижность гуманитарных профессий, так и уровень подготовки гуманитариев. Происходит депрофессионализация и «утечка мозгов» из гуманитарной сферы общества.
Безусловно, делать акценты в основном на социально-экономическом статусе данной группы неверно.
Разрушение гуманитарной культуры наряду с другими причинами вызвало потерю нравственности у многих граждан, их интереса к литературе, истории, науке, высокому искусству, функциональную неграмотность. Трансформируется социальная идентичность гуманитарной интеллигенции. Растет отказ от признания не только своей принадлежности к ней, но и самого ее существования. К примеру, появилась точки зрения — интеллигенции нет, но есть интеллигентные люди. Или, точнее, остались. Все это ведет к неэффективной растрате жизненных сил интеллигенции, неудовлетворительному ее самочувствию, к невыполнению своей общественной роли и исторического предназначения.
Между тем интеллигенция была во всех самоосознающих себя сообществах. Кого же называют интеллигенцией?
Интеллигенция — от лат. intelligens — понимающий, мыслящий, разумный.
На западе интеллигент — это просто интеллектуал, т. е. тот, кто не занят неквалифицированным физическим трудом. У нас это скорее духовно-нравственное понятие, «чувствилище нации». Есть различия в представлениях российских исследователей о ценностной характеристике интеллигенции. Одна точка зрения позволяет вести разговор о ее ценностной функции, связанной с определенными профессиональными компетенциями. Согласно второй точке зрения интеллигенция — это ценностная общность, отнесение к которой предполагает верность высокой идее, альтруизм, антипрагматизм.
-
Н. Бердяев [1] считал интеллигенцию духовной элитой, а не социальным слоем. Основной принцип интеллигентности — это наличие интеллектуальной свободы. Свобода — категория нравственная. Свободен интеллигентный человек только от своей совести и от
своей мысли. Может быть и несвободным от навсегда принятых принципов.
С культурологической точки зрения интеллигенция — это, во-первых, преимущественно люди профессионального умственного труда, духовно-нравственная элита общества, внесословное и внеклассовое образование; во-вторых, группа людей, идентифицируемая по критериям идейности, самоотверженности, наличия гражданской позиции, способности к пониманию, осознанию, переосмыслению основ общества, динамизму критического ума (Н. Бердяев, Р. Иванов-Разумник, А. Солженицын, П. Струве, С. Франк и др.). Культурологический взгляд позволяет определить своеобразие духовной природы интеллигенции, выявить содержание ее ценностных и общественных ориентаций. Вместе с тем вне рамок этого подхода остается понимание интеллигенции, ее сущности и особенностей как социальной группы.
В рамках социологического подхода осуществляется поиск объективных критериев, которые характеризовали бы интеллигенцию как социальную общность, отличали и определяли ее положение в системе общественных отношений (М. Вебер, А. Грамши, М. Рут-кевич, П. Сорокин и др.). Согласно этому подходу, интеллигенция — это исторически вне-сословная и внеклассовая совокупность людей, социальная группа, профессионально занимающаяся умственным трудом высокой квалификации, отличающаяся высоким образовательным уровнем и развитыми нравственными качествами, в условиях рыночных отношений претендующая на роль основы (ядра) среднего класса российского общества.
Гуманитарная интеллигенция — социально-профессиональная группа, занятая в духовной, социально-культурной сфере, выполняющая образовательную, просветительскую и воспитательную функции, основной деятельностью которой является создание, хранение, передача, трансформация духовной культуры. Последняя «пропитывает» всю ткань социальной жизни. Именно деятельность гуманитариев направлена на формирование культурной и социальной целостности общества.
В структурном отношении гуманитарная интеллигенция представляет собой сложный, неоднородный феномен. Она включает элиту интеллигенции (это люди творческих профессий, развивающие науку, культуру, искусство, социально-гуманитарное знание), массовую интеллигенцию (врачи, учителя, сотрудники музеев, архивов, журналисты, другие представители СМИ, работники библиотек, выставочных центров), полуинтеллигенцию (медицинские сестры, фельдшеры, воспитатели дошкольных учреждений, ассистенты, лаборанты, референты) [2].
Определенная часть интеллигенции обладает высоким авторитетом в глазах общества и имеет (хотя и ограниченный) доступ к СМИ как трибуну для своего рода культурной проповеди. Именно в этом видится миссия Д. С. Лихачева, А. И. Солженицына и ряда других крупных деятелей российской культуры — носителей референтных черт интеллигенции. Есть свои лидеры мнений в регионах.
Часть интеллигенции, прежде всего деятелей искусства, имеют достаточные материальные и финансовые возможности для экс-тернализации авторского взгляда на мир и понимание жизни (имеется в виду постановка кинофильмов, театральных спектаклей, написание художественных произведений).
Есть интеллигенция, непосредственно участвующая в реализации властных полномочий, которая входит в состав правящих и неуправляющих элит, оказывающих непосредственное воздействие на принятие управленческих решений.
Немало работников умственного труда находятся в тесных деловых связях с властью, производством, финансовыми и другими кругами, обладающими богатством— престижем—властью (по критериям Вебера). Профессиональный труд таких работников востребован миром бизнеса, они вполне успешны и по меркам «деловых людей», и по самоидентификации.
Большая часть интеллигенции замыкается в узких сообществах или пребывает в фактическом одиночестве, не имеет достаточно разнообразных внешних контактов.
Огромное число представителей гуманитарной интеллигенции просто честно и много работает на местах, зачастую скромно, не выпячивая себя, не выходя за пределы локальной публичности, и даже с самопожертвованием.
Интеллигенция не является неизменной. В периоды коренных трансформаций общества происходят сдвиги в ее ведущих характеристиках. ХХ век — век социальных катаст роф и нестабильности. Разрушены иллюзии о существовании универсальных векторов мирового развития (теория общественного прогресса, либеральная концепция рациональности экономического и социального поведения, теория освобождения труда, доктрины нравственного совершенствования человечества и др.). Эти векторы истории перестают быть для интеллигенции ориентирующими ценностными системами.
Функциональное назначение интеллигенции изменяется как в российском, так и в глобальном мировом контексте, что отмечено многими зарубежными и отечественными исследователями (Ю. Хабермас, Х. Аренд, Д. Карр, Д. Брунер, В. Левичева, В. Луков, Е. Трубина, М. Елютина и др.). На постсовременные процессы в нашем обществе наложилась ускоренная смена культурных кодов. Региональная стратификация в России вносит дополнительные факторы в изменение условий и моделей адаптации этой группы.
Очевидно, что современная гуманитарная интеллигенция еще во многом сохраняет свои позиции в российском обществе, меняя отдельные характеристики.
Несмотря на то, что интеллигенция ведет весьма интенсивную и напряженную интеллектуальную жизнь, тем не менее окружена ореолом некоторого равнодушия в вопросах, волнующих социум, как то: кризис внутреннего мира современного человека, формирование новых культурных жизненных ценностей и установок.
Нередко говорится о неясной мировоззренческой позиции самой гуманитарной интеллигенции. Во всяком случае, эти позиции слабо манифестируются. Она перестает быть творцом идей, идейным лидером. Социальный и культурный плюрализм делает акцент на неимперских функциях интеллигенции, что, полагаем, вообще для подлинной интеллигенции не является принципиально новым. Претендовать на истину в последней инстанции невозможно, как невозможно и неправильно говорить за других.
Гуманитарная интеллигенция еще пытается совершить эвристические, даже экзистенциальные рывки, чтобы спасти хотя бы моральные понятия, носителем которых была всегда. Есть потребность сохранения «самости», непревращения себя во флюгера, необоснованно прогибающегося под мир. Все это ради сохранения собственной внутренней значимости.
Однако отсутствие единства в сообществе мешает прорывным действиям. В итоге — безликий имидж гуманитарной интеллигенции.
Молодежь (да и не только) зачастую не может сформулировать, кто такой интеллигент, современный интеллигент, представить его портрет. В новых поколениях россиян, жизненные ориентиры которых формируются после 1991 года, ценности, присущие интеллигенции, ее образ жизни не обладают столь большой привлекательностью и референтно-стью, как раньше. Молодые, энергичные лица, увлеченные гуманитарной наукой и духовными ценностями, практически отсутствуют. Или их очень мало.
Другой не менее значимой проблемой этого безличия является кризис, собственно, гуманитарного образования.
С одной стороны, он выражается в непопулярности и неясном понимании необходимости гуманитарного знания. Интеллигенция не упрощает, а создает когнитивно сложное знание. Во многом знании — многое печали. Гуманитарная интеллигенция — это рефлексирующие личности. Но этос гуманитария не ориентирует на прагматизм, слабо способствует материальному достатку. Все это очень интересно, но слабо помогает жить в современном мире. Отказ от такого знания происходит лавинообразно.
С другой стороны, следует отметить отсутствие новых образовательных стратегий в этой области, с сомнительным технологическим обеспечением. Например, в качестве технологического инструмента сверху залеги-тимирована балльно-рейтинговая система оценок, тестирование, в том числе по гуманитарным дисциплинам, в том числе и в вузах, зачастую возводимая на уровне итоговых требований в абсолют. Это инструменты, которые в недостаточной мере ориентируют на целостное и критическое осмысление, даже не на воспроизведение информации, а на ее узнавание. К тому же это инструменты, которые создаются без глубоко проработанных содержательных аспектов Государственных общеобразовательных стандартов, т. е. содержания образования.
В сегодняшнем рефлексивном проекте современного российского интеллигента традиционный набор качеств — образованность, компетентность, совестливость, духовность. Почти отсутствуют составляющие успешной жизни: динамизм, признание, достижение, удачливость, карьера, мобильность и др.
Особые функции гуманитарной интеллигенции в социуме, исторически сложившаяся неукорененность в экономической структуре общества, «прослоечный» статус, моральные стандарты, принадлежность большинства ее представителей к бюджетным организациям — обстоятельства, которые задают своеобразие социальной адаптации этой высокообразованной социально-профессиональной общности, влияют на процесс выработки новых практик, многие из которых сводятся к простому выживанию, формируют «ценности выживания».
Социологические исследования убедительно доказывают [3], что наиболее распространенными в адаптационных моделях поведения в Ульяновской области являются типы «выживающих» и «адаптированных»; они присущи большинству гуманитарных специалистов. Для них характерны установки на терпение, постепенные положительные изменения с опорой на нормативное регулирование поведения в рамках социального института и минимум творчества. Модель «активная адаптация» (энергичный поиск возможностей успеха, открытость новому, достижительный характер стратегии поведения) используется не более чем пятой частью от состава данной социально-профессиональной группы. Комплексная оценка профессиональной и социально-экономической адаптации гуманитарной интеллигенции продемонстрировала устойчивую тенденцию утраты группой своего авторитета и статуса, которая сопровождается нарастанием социальных страхов. Прослеживается зависимость между повышением уровня образования и усилением социальной тревожности.
Система доминирующих ценностей в группе не помогает большинству быть успешными. Ценности интеллигенции не релевантны по отношению к ценностям общества, происходит их реификация. Понятно, что эти внутригрупповые процессы будут влиять на структурно-функциональную трансформацию группы, а в перспективе — и на глубокие ценностно-нормативные перемены.
Буквально на глазах происходит разрушение важнейшей социально-значимой функции интеллектуальной элиты — быть экспер- том [4]. Гуманитарная интеллигенция воспроизводит научные знания в среде образования, но в целом уже не имеет возможности контролировать так называемые «большие системы»: средства массовой информации, политические, организационно-управленческие технологии, Интернет, другие коммуникативные сети, которые конструируют ныне эталоны оценок. Ценности привносятся в общество в большей мере посредством других систем, а не системы образования. Оказавшись на периферии общества, гуманитарная интеллигенция во многом утратила позиции тех, кого слушают, к кому прислушиваются. Исследовательские практики, выполнявшиеся наукой веками, направленные на постижение нового, вытесняются (особенно в сфере именно гуманитарного знания) всевозможными рецептами. Овладение такими разрозненными технологиями, алгоритмами действий оказывается достаточным для жизнедеятельности широких масс, но означает, по сути, достижение желаемого, но известного.
Безусловно, ценен широкий и вполне свободный доступ к информации, необходимой для жизненной ориентации разных социальных групп. В совокупности с высокими и быстро формирующимися притязаниями и амбициями избыток информации или некоторых знаний (или ощущение такового, пред-знание) порождает недостаток желаний, избыток желаний — недостаток умений. Формируемая мотивация не подкрепляется умениями, работоспособностью, волей, наконец, пониманием, что без труда невозможно достичь результата.
Кроме того, преобразование информации через СМИ привело к фрагментарности картины мира, что ощущают многие люди. А в этом случае ведущее свойство мировоззрения — целостность — оказывается неадаптивным.
Интеллигенция не только разнородна, но и разобщена. Конечно, характер трудовой деятельности и образ жизни интеллигенции придают группе определенный индивидуализм. Сегодня наблюдается усиление духа индивидуализма и корпоративности не только в связи с трансформацией системы ценностей.
Значительная часть интеллигенции существует сама по себе, слабо структурирована в социальном отношении. Ее жизненное пространство сужается до уровня первичных групп, ценностных и субкультурных общно- стей. Ей даже присущ отпечаток маргинальности. Кто-то просто спускается на социальное дно. Трудно формируются общегражданские и общекультурные солидарности.
У интеллигенции есть свое мнение, ей есть что сказать. Она была бы полезна в формировании гражданского общества, от чего и сама, наверное, выиграла бы. Однако закрытость, даже замкнутость на себе, приводит к постсовременным эффектам, когда не-присутствие в широких открытых коммуникативных сетях равносильно отсутствию субъекта. Интеллигенции будто нет. Ее нет, с ней не говорят. Однако социуму по-прежнему нужны лидеры мнений. Ему нужно, чтобы объясняли.
Хотя есть еще вопрос: как завоевать авторитет, чтобы быть лидерами мнений? В условиях социальной аномии, формирующегося полицейского государства есть общественные ожидания четкого определения критериев морали и нравственности. Власть молчит. Задавать нравственные настроения должна гуманитарная интеллигенция. Но могут ли это делать маргиналы?
Многие высказывания на конференциях и в публикациях свидетельствуют о разочарованиях части интеллигенции в курсе либерализации России, утрате чувства сопричастности с судьбами страны, иногда — глубокой обиде на власть. Самая распространенная стратегия адаптации в таких условиях — уход (уход от активного сотрудничества как с органами регионального, муниципального управления, так и с профессиональными организациями; отказ от активной общественной оппозиции, выражения конструктивной критики).
В то же время велико стремление (особенно представителей старших поколений) несмотря ни на что продолжать выполнять высокую культурную миссию, которая и отделяет человека с высшим образованием от интеллигента. Верить, ни на что не надеясь.
Сложно согласиться с маргинальным положением гуманитариев и гуманитарного знания именно в России, где им принадлежит особая историческая роль. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, англичанин Т. Шанин в одном из своих выступлений отметил: «Одной из особенностей России, которая особенно видна мне как иностранцу, является та мера, в которой российская интеллигенция думала через литера- туру — больше через литературу, чем через социальные науки. В XIX веке очень многое из того, что в англосаксонских странах определялось через социальные науки: социологию, экономику и так далее, в России определялось через русскую литературу» [5].
Да, литература, и в целом гуманитарное знание, могут и не давать сиюминутной выгоды. Но снимают шоры сознания, способствуют формированию неплоских знаний, зрелых личностей, ярких индивидуальностей. Полагаю, что уже сейчас страна испытывает дефицит такого рода человеческого капитала во всех сферах.
Важно жить здесь и теперь, и быть в актуальной жизни успешным, но важно иметь мечту и идеалы. Именно они дают возможность прорастать сквозь собственные рамки, развиваться. Это одно из важных условий качественного Образ-ования в смысле (Образ-ваяния) личности. Эти ментальные, культурные составляющие, пропитывающие все аспекты социальной жизни, имеют значение. Они справедливо оцениваются как серьезная материальная сила общественного развития, от которой зависит успех—неуспех модернизации. Важно не сделать шаг назад в будущее.
-
1. Бердяев, Н. А. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы / Н. А. Бердяев // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М. : Наука, 1994. Т. 1.
-
2. Луков, В. А. Миссия интеллигенции в современном российском обществе / В. А. Луков // Знание. Понимание. Умение. 2011. Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/gum/society .
-
3. Клюева, Т. В. Социальная адаптация гуманитарной интеллигенции в современном российском обществе : автореф. дис. … канд. соц. наук / Т. В. Клюева. Пенза, 2011.
-
4. Левичева, В. Ф. Гуманитарная интеллигенция: основания корпоративной идентичности / В. Ф. Левичева // Социс. 2001. № 2. С. 57—61.
-
5. Шанин, Т. Лекция «История поколений и поколенческая история России» (прочитана
17.03.2005 г. в дискуссионном клубе Интер-нет-портала «Полит.ру») / Т. Шанин. Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2005/03/23/ shanin.html.
Список литературы Проблемы современной российской гуманитарной интеллигенции
- Бердяев Н. А. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы/Н. А. Бердяев//Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Наука, 1994. Т. 1.
- Луков В. А. Миссия интеллигенции в современном российском обществе/В. А. Луков//Знание. Понимание. Умение. 2011. Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/gum/society.
- Клюева Т. В. Социальная адаптация гуманитарной интеллигенции в современном российском обществе: автореф. дис.. канд. соц. наук/Т. В. Клюева. Пенза, 2011.
- Левичева В. Ф. Гуманитарная интеллигенция: основания корпоративной идентичности/В. Ф. Левичева//Социс. 2001. № 2. С. 57-61.
- Шанин Т. Лекция «История поколений и поколенческая история России» (прочитана 17.03.2005 г. в дискуссионном клубе Интернет-портала «Полит.ру»)/Т. Шанин. Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2005/03/23/shanin.html.