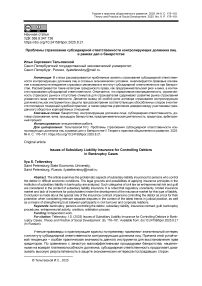Проблемы страхования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках дел о банкротстве
Автор: Тельтевской И.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемные аспекты страхования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в сложных экономических условиях. Анализируются правовые основания и возможности внедрения страховых механизмов в институт субсидиарной ответственности при банкротстве. Рассматриваются такие категории гражданского права, как предпринимательский риск и вина, в контексте страхования субсидиарной ответственности. Отмечается, что нормативная неопределенность, ограниченность страхового рынка и отсутствие стимулов для страхователей сдерживают развитие рынка страхования указанного вида ответственности. Делается вывод об особой роли договора страхования контролирующих должника лиц как инструмента их защиты при рассмотрении соответствующих обособленных споров в контексте последних тенденций судебной практики, а также средства укрепления доверия между участниками гражданского оборота и корпоративных отношений.
Банкротство, контролирующие должника лица, субсидиарная ответственность, договор страхования, вина, процедуры банкротства, предпринимательская деятельность, кредиторы, арбитражный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/149149047
IDR: 149149047 | УДК: 368.8:347.736 | DOI: 10.24158/tipor.2025.8.21
Текст научной статьи Проблемы страхования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках дел о банкротстве
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, с начала коренной трансформации института субсидиарной ответственности в 2017 г. посредством введения инновационной главы III.2 в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)1 в несколько раз возросло количество как поданных заявлений о привлечении контролирующих должника лиц, так и судебных актов об удовлетворении соответствующих требований. Например, в 2017 г. подано 3 652 заявления, из которых удовлетворено 821, т. е. 22 %; в 2024 г. было подано уже 6 248 заявлений, рассмотрены в пользу кредиторов 3 229, или 52 %. Таким образом, статистика показывает более чем двухкратное увеличение по всем показателям2.
Представляется, что проблема страхования указанного вида ответственности имеет особое значение в связи с тем, что, как справедливо отмечают Т.Г. Корюкаева, А.А. Петряшова, «законодательство о банкротстве в Российской Федерации носит прокредиторский характер как в целом, так и в части привлечения КДЛ <контролирующих должника лиц> к субсидиарной ответственности» (2024: 105). В частности, указанная позиция находит отражение и в актах органов судебной власти. Так, в п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 определено, что привлекаемые к субсидиарной ответственности лица должны занимать активную процессуальную позицию, когда бремя доказывания своей невиновности переходит к ним на основании представленных заявителями косвенных доказательств их причастности к наступлению несостоятельности контролируемого ими должника3.
В свою очередь, в самом Законе о банкротстве перечислено значительное количество опровержимых презумпций, определяющих круг тех лиц, которые могут быть признаны руководителями должника. Так, помимо бенефициаров, согласно п. 4 ст. 61.10, п. 4–7 ст. 61.11 и п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве, к контролирующим должника лицам относятся следующие управленцы – директора, бухгалтеры, уполномоченные на заключение сделок лица, а также участники юридических лиц, имеющие так называемое право решающего голоса. Соответственно, все эти лица наиболее уязвимы перед риском привлечения к субсидиарной ответственности в связи с упрощенным порядком доказывания их виновности относительно процедуры доказывания виновности скрытых выгодоприобретателей.
При этом, как следует из п. 10 ст. 61.11 Закона о банкротстве, контролирующее должника лицо освобождается от субсидиарной ответственности, если доказывает отсутствие своей вины в невозможности погасить долги перед кредиторами. Также не допускается привлечение к субсидиарной ответственности тех лиц, которые докажут, что действовали добросовестно и разумно в соответствии с особенностями сферы предпринимательской деятельности, а также в интересах контролируемой ими организации или ее владельцев, не ущемляя прав кредиторов, или что их действия предотвратили еще большие потери для кредиторов. Следовательно, основанием субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц является наличие вины в форме как умысла, так и грубой неосторожности.
Как справедливо отмечает А.А. Севостьянова, «в судебной практике принята позиция, что неосторожная вина следует из такого поведения, при котором причинителем вреда проявлена хотя бы минимальная степень заботливости и осмотрительности» (2025: 154). При этом, как видно из указанных разъяснений Верховного Суда РФ, лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае его добросовестного поведения, которое может предполагать наступление банкротства у должника, но характеризуется неосторожной виной в форме простой неосторожности. В таком случае речь идет о принятии мер, достаточных, по мнению привлекаемого лица, для избежания несостоятельности в границах разумного предпринимательского риска. При этом грубая неосторожность в контексте субсидиарной ответственности воспринимается высшим органом судебной власти как предвидение лицом существенной вероятности наступления банкротства (т. е. невозможности надлежащего удовлетворения требований своих кредиторов) в результате осуществляемых действий при наличии легковерного расчета его избежать.
В связи с этим возникает вопрос – допустимо ли страхование умысла и грубой неосторожности контролирующих должника лиц в соответствии с действующим законодательством о страховании, учитывая, что простая неосторожность предполагает добросовестность, являющуюся основанием к освобождению от субсидиарной ответственности?
Необходимо указать, что в соответствии с п. 1 ст. 928 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не допускается страхование противоправных интересов, т. е. умышленных нарушений предписаний действующего законодательства1. Как справедливо отмечают ученые-правоведы П.П. Баттахов, Ю.С. Овчинникова, С.М. Мотуренко, «невозможно однозначно определить, какие интересы являются противоправными или иначе – каковы критерии правомерности страхового интереса» (2023: 444). Общий подход в теории страхового права сводится к тому, что противоправный страховой интерес проявляется в нарушении норм действующего публичного порядка, влекущего наложение административных и уголовно-правовых санкций, т. е. такие противоправные действия посягают на публичные интересы, но не на частноправовые. В судебной практике также имеют место однозначные выводы, что противоправный интерес связан с невозможностью страхования от санкций органов публичной власти, а условия таких страховых договоров считаются недействительными2.
С указанным подходом нельзя не согласиться, но также нужно отметить, что противоправный интерес имеет место и в рамках частноправовых отношений, например при заключении сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ), при заключении мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК РФ). Реализация противоправного интереса проявляется и при совершении действий, заведомо противоречащих основополагающим принципам гражданского права, например принципу презумпции добросовестности и разумности сторон гражданских отношений, закрепленному в ст. 10 ГК РФ. В данном случае посягательство осуществляется не только на публичный порядок, но и на частные интересы конкретных лиц. Этот подход разделяет и А.М. Яблуновская: «В отсутствие в доктрине на сегодняшний день единого критерия, который позволил бы определить содержание противоправного страхового интереса, для целей практического применения п. 1 ст. 928 ГК РФ представляется оптимальным руководствоваться критериями сделок, нарушающих публичные интересы, применяемыми судами…» (2022: 66).
Хорошим примером страхования противоправного интереса в рамках частноправовых отношений может служить известный случай с американским адвокатом, застраховавшим свои сигары, который после использования их естественным образом потребовал от страховой компании возместить стоимость в связи с их гибелью в результате серии маленьких пожаров. Впоследствии страховая компания доказала умышленные противоправные действия адвоката, выразившиеся в намеренном уничтожении застрахованного им же имущества.
Следовательно, можно утверждать, что в контексте субсидиарной ответственности допускается ее страхование, однако совершение контролирующим должника лицом заведомо противоправных деяний, например заведомо невыгодных сделок, направленных на вывод активов должника, не может быть основанием для соответствующей выплаты страховой компанией, поскольку страхование именно таких действий заведомо недействительно согласно положениям доктрины и действующего законодательства. Нормы иностранных правопорядков содержат сходные положения. Как отмечают ученые-правоведы, «ограничение в использовании страхования достигается разными способами, среди которых не только недействительность страховой сделки, но и отказ в принудительном исполнении обязательства (Англия и США)» (Очерки страхового права…, 2022: 66).
Проблема заключается в определении грани между «неумышленно неразумным» поведением руководства, вызванным, например, недостаточной компетенцией и не выходящим за адекватные пределы предпринимательского риска, и умышленным доведением до банкротства в корыстных интересах.
В рамках ст. 933 ГК РФ допускается страхование предпринимательского риска. Как отмечают М.А. Перепелица, Г.В. Шачков, «под предпринимательским риском предлагается понимать осознанный выбор субъектом предпринимательской деятельности одного из альтернативных вариантов поведения в рискованной ситуации, характеризующийся неопределенностью исхода и вероятностью наступления неблагоприятных имущественных последствий» (2023: 44).
Благодаря указанному инструменту осуществляется страхование убытков организации, которые могут быть вызваны внешними неконтролируемыми факторами, но не принятием тех или иных управленческих решений руководством: природными явлениями, техногенными авариями, забастовками и др. При этом выгодоприобретателем согласно такому договору страхования выступает подконтрольная организация как самостоятельный участник гражданско-правовых отношений, в связи с чем наработанная практика страхования предпринимательского риска не может быть ретранслирована на разрешение проблем страхования субсидиарной ответственности, неразрывно связанной с личностью руководителей должника. Вместе с этим представляется, что заключение договора страхования предпринимательского риска не противоречит, а, наоборот, дополняет инструмент страхования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, поскольку защищает юридическое лицо от внешних объективных факторов, представляющих угрозу для бизнеса. Нельзя не согласиться с В.С. Белых, констатирующим, что «…предпри-нимательский риск – это потенциальная возможность (опасность) наступления или ненаступле-ния события (совокупности событий), влекущего неблагоприятные имущественные последствия для деятельности предпринимателя по независящим от него обстоятельствам» (2025: 6).
Соответственно, наиболее подходящим инструментом страхования ответственности контролирующих должника лиц является страховой полис, адаптированный к особенностям порядка привлечения к субсидиарной ответственности и содержащий следующие ключевые аспекты в части ее страхования.
Во-первых, в рамках такого полиса должно допускаться страхование грубой неосторожности, поскольку простая неосторожность в контексте положений Закона о банкротстве не связана с нарушением принципов добросовестности и находится в границах предпринимательского риска, который напрямую связан с объективными условиями ведения хозяйственной деятельности, что следует и из доктринальных подходов, и из положений, сформулированных в актах органов судебной власти1. Как отмечает Т.И. Шайхеев, «если действия (бездействие) директора повлекли убытки, но не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска, он не может быть привлечен к субсидиарной ответственности» (2022: 137).
Во-вторых, не может допускаться страхование умысла при доведении должника до состояния банкротства в контексте ст. 61.11 Закона о банкротства, а также при неисполнении обязанности подать заявление о банкротстве в соответствии с положениями ст. 61.12 Закона о банкротстве, поскольку такое условие будет заведомо ничтожным.
В-третьих, выгодоприобретателями в рамках страхования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц должны быть не корпоративные кредиторы, которые могут требовать только возмещения убытков в случае банкротства должника, а кредиторы должника, сумма требований которых не покрывается имеющимся имуществом должника (п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве). Ответственность перед участниками несостоятельного должника должна страховаться отдельно, поскольку связана с взысканием убытков по корпоративным основаниям.
Также ключевыми критериями, являющимися основанием страховой выплаты, должны выступать отсутствие обогащения в результате действий, приведших к банкротству, и отсутствие грубых нарушений предписаний действующего законодательства в части исполнения обязанностей в рамках банкротства. В противном случае речь будет идти о двойном неосновательном обогащении, складывающемся из суммы и страховой выплаты, и необоснованно сбереженных материальных благ, на которые обоснованно претендуют кредиторы должника-банкрота.
Таким образом, факт страхования субсидиарной ответственности руководства может квалифицироваться судами как составной элемент антикризисного бизнес-плана на случай наступления кризисной ситуации в подконтрольной им организации-должнике. Добросовестному предпринимателю всегда необходимо учитывать потенциальные риски, которые могут быть связаны не только с объективными внешними факторами, но и с принятием им конкретных управленческих решений в текущих рыночных отношениях с оглядкой на будущую непредсказуемость условий рынка.
Считаем важным обратить внимание на то, что для защиты контролирующего лица от требований недобросовестных кредиторов посредством своей добросовестности на практике используется механизм, определенный в абз. 2 п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве. Указанная норма устанавливает опровержимую презумпцию: кредиторы, вступая в отношения с должником, потенциально подлежащим банкротству, должны знать о признаках его потенциальной неплатежеспособности. Именно поэтому при споре о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности последние вправе ссылаться на принцип осведомленности заявителей, чтобы исключить их требования из реестра кредиторов, что поддерживается и актуальной судебной практикой1. Такая осведомленность заключается в том, что разумный контрагент перед вступлением в экономические отношения должен изучить всю доступную информацию о противоположной стороне, имеющуюся в открытых источниках.
В заключение нужно отметить, что установление в действующем законодательстве предписаний об обязательной публикации сведений о заключении договора страхования субсидиарной ответственности в публичных источниках информации (на официальных порталах «Федре-сурс» или «Прозрачный бизнес») должно послужить неопровержимым подтверждением рационального подхода руководства несостоятельной организации к рискам возникновения банкротства. Указанный подход может обеспечить прозрачность отношений между юридическим лицом, находящимся в риске банкротства, и его кредиторами еще до инициирования соответствующих процедур. Заключенный договор страхования является и косвенным подтверждением отсутствия противоправного умысла у лиц, руководящих юридическим лицом, а также свидетельствует об ответственном подходе к делу. Вместе с тем отсутствие надлежащего правового регулирования страхования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и, как следствие, судебной практики, дающей ответы на возникающие при ее применении вопросы, в настоящий момент ограничивает скорость развития рынка ее страхования.